Жизнь как жизнь
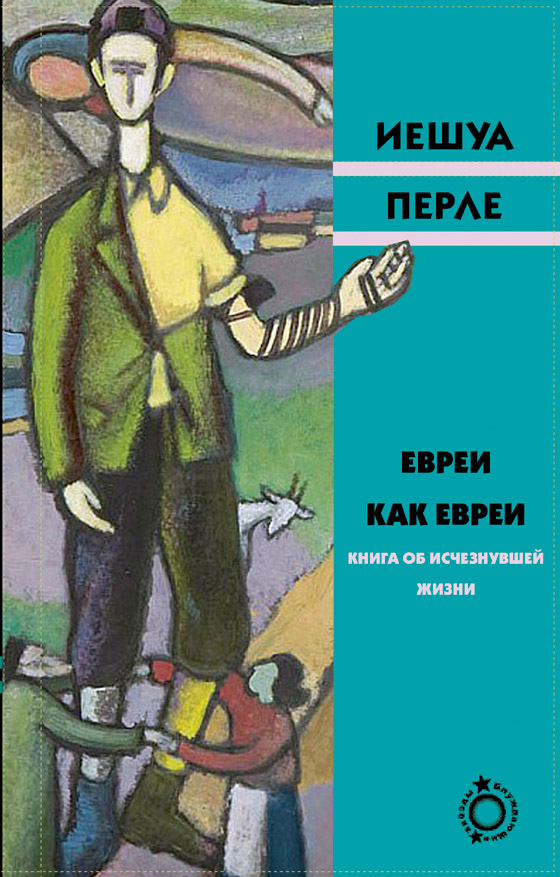
Иешуа Перле
Евреи как евреи. Книга об исчезнувшей жизни
Перевод с идиша Исроэла Некрасова. — М.: Книжники, 2023. — 412 с.
Большую часть своего творческого пути Иешуа Перле (1888–1943) не считался значительным писателем. Для денег сочинял бульварные романы, подписанные монограммой из трех звездочек. Под своим именем печатал книги более серьезные, но несамостоятельные. Подражал модным Шолому Ашу и Вайсенбергу. Критика относилась к нему кисло. И вдруг в 47 лет напечатал книгу с непритязательным названием «Евреи как евреи», принесшую ему славу. Потом — продолжение, с названием более красивым, но для еврейской культуры почти банальным: «Золотая пава». Третья часть, «Закоулки», издана не была: началась война. Успевший побыть советским писателем, Перле тайком возвращается из Львова в Варшаву, попадает в гетто и в итоге гибнет в Биркенау.
Судя по всему, образцом для автобиографической трилогии Перле послужили произведения Максима Горького — «Детство», «В людях», «Мои университеты». По крайней мере, Перле ими восхищался. Но образцы такой «прозы о детстве» широко представлены и в еврейской литературе. Например, «Мамины субботы» Хаима Граде — сборник рассказов, очень похожий на книгу Перле своим жизненным материалом. Похожий — и непохожий. Потому что Граде — магический реалист. Для него прозаическая реальность, которую он описывает, освещена неким светом, идущим оттуда, при котором заметнее бедность этой жизни, ее неполнота, а с другой стороны — бедная, убогая жизнь обретает какую‑то чарующую прелесть. Кроме того, Граде оглядывается на этот мир по ту сторону Холокоста. Он уже знает, как все закончится, знает, что он уцелеет, а окружающие его люди нет. Это порождает особую оптику.
У Перле ничего подобного нет. «Исчезнувшая жизнь» исчезла просто потому, что времена изменились. Цивилизация наступает, ну и евреи меняются вместе с ней.
Вспомним Горького. Жесткий натурализм. Описание родного автору мира русского провинциального мещанства как мира жестокого, дикого, в котором невозможно жить. Одна только добрая и нелепая бабушка как‑то освещает его изнутри.
А у Перле — никакого обличения. В описанном им мире нет пьянства и насилия (хотя, как мы понимаем, в традиционном еврейском обществе все это тоже бывало, пусть и статистически реже). Нет и тоски, скуки. «Еврейские павлины на обивке, / Еврейские скисающие сливки, / Костыль отца и матери чепец — / Все бормотало мне: /— Подлец! Подлец!» — все это беснование задыхающегося Багрицкого от Перле бесконечно далеко. Хотя слой, который он описывает, ниже, беднее. Какие там павлины! Мать автобиографического героя, мальчика Мендла, все время ностальгически вспоминает о латунных дверных ручках, которые были у нее, когда она вышла замуж за фармацевта. Второй муж (отец героя) — торговец сеном. Мужики зовут его «пан купец», но он и сам может вместе с ними покосить в поле. Впрочем, семья его жены тоже не патрицианская. Дед Мендла, Дувид‑Фройка, — портной, он шьет русскую гимназическую форму. Добрый, эксцентричный и пьющий (соврал я, один пьяница в книге есть, но очень симпатичный!), дед водит дружбу с дурачком‑водовозом Владеком.
Если у кого‑то в огромном клане ребенок поступает в гимназию, это производит грандиозное впечатление. Не из‑за процентной нормы (действие происходит в Российской империи, в Польше, в «привисленских» губерниях). Просто это слой, для которого гимназия не очень по карману и по чину. Кроме того, это чужое. Даже еврейская школа, в которой на стенах висят портреты сэра Мозеса Монтефиоре и барона Гирша, а обучение происходит чуть более сложным, чем в хедере, способом, кажется сеноторговцу гойской.
При этом мотивы антисемитизма и дискриминации если и занимают в книге место, то совершенно ничтожное. Все внимание сосредоточено на повседневном мещанском быте, который описывается и без отвращения, и без умиления. Старшие сводные братья и сестры, живущие где‑то в прислугах и приказчиках. Помолвка сводной сестры со щеточником. Ее рассказы о столичном модном магазине, где «покупают одежду генеральши, графини, танцовщицы Большого театра». Смерть сводного брата. Наглая квартирантка. Солидный и в то же время нелепый дядя Бенцион, писец в общине. Другой дядя, Мордхе‑Мендл, двойник шолом‑алейхемовского Менахема‑Мендла, неудачливый гешефтмейстер и прожектер. Бесконечные переезды с квартиры на квартиру — мания беспокойной матери, все тоскующей по своим латунным дверным ручкам.
Иногда — драматические истории. Сводная сестра, забеременевшая от хозяина и выкинувшая при всех, на улице, становится парией. Ее не принимают в родительском доме, не упоминают ее имени. Потом все же прощают и даже выдают замуж — за первого, кто посватался, без любви, а то кто же такую возьмет. Мещанская драма без мещанской мелодрамы. Или — позаковыристей — история Ханчи, владелицы чайной, и ее дочери Рухчи. Четырнадцатилетняя Рухча, из‑за которой соперничают мальчишки во дворе, увела у матери хахаля и еще ограбила ее. То‑то почва для сплетен в маленьком городке.
Все это — глазами подростка, который никак не рефлексирует по поводу окружающего. Перле и не пытается подробно раскрыть внутренний мир Мендла. Все на уровне ощущений. В одной квартире нравится больше, в другой меньше. Один учитель добрее и рассказывает про Тору поинтереснее, другой — грубиян и зануда. А тут и сексуальное созревание. Мальчика пытаются соблазнить две взрослые тетки — прислуга и квартирантка. Потом уже его самого начинают волновать девочки. Жизнь как жизнь. И пожалуй, главное в книге Перле — непринужденность и лаконизм, с которыми она описывается.
В Новой Мельничке, деревне, откуда он переехал в город, повсюду простирались солнечные поля, окруженные синими, темными лесами. Дома там простые, бревенчатые; соломенные крыши, земляные полы. В Новой Мельничке пили простоквашу из огромных глиняных кувшинов и пекли необъятные караваи. Летом купались в речке, спали в стогу и смотрели на широкие поля. Наверно, оттуда отец и привез в город свои глубокие знания о сене.
Это просто образчик слога.
Но и в этой жизни есть свои духовные вершины. Школьный учитель реб Янкеле, преподающий пророческие книги и сам вырастающий в сознании учеников чуть не до библейского пророка. Или встреча шабата на лоне природы, куда семья выехала на лето по торговым делам отца:
Сейчас отец — не городской реб Лейзер с сонными глазами, которые никогда не желали большего, чем им предначертано, и не живущий в телеге торговец сеном. И даже не «пан купец», который босиком, в холщовых штанах, помогает крестьянам работать в поле. Сейчас он еврей, который служит Б‑гу. Один из тех, кто вместе с Моисеем выходил из Египта и стоял у горы Синай.
Все это воздействует, поскольку Перле не злоупотребляет такими эпизодами. И под конец книги новый друг Мендла, Ойзер, мальчик из семьи «вольнодумцев», вносит диссонанс в этот мир патриархального благочестия:
Мы смотрели на Лейбла, пока он не скрылся за дверью в квартиру своего отца. Тогда Ойзер спросил:
— А знаешь, почему он с ума сошел?
— Не знаю.
— Потому что ждал Мессию и не смог дождаться.
— Все евреи ждут Мессию.
— И все с ума сойдут.
Гимназист Ойзер — носитель иной культуры.
Ойзер рассказал, что Пушкин, тот, у которого стихи, — он, между прочим, в царский дворец был вхож — сочинил сказку о золотой рыбке, и о каком‑то человеке, которого звали гадким именем Мазепа, и о помещичьем сыне Евгении Онегине.
Это имперская, русская культура. Влияние же культуры польской совсем не ощущается, хотя она, вроде бы, гораздо ближе. Польские крестьяне и мещане, окружающие мещан еврейских, вряд ли читали «Дзяды».
И, хотя книга заканчивается на полуслове, понятно, что замкнутый мир взломан. Дальше будет другая история.
Книга переведена прекрасным русским языком и, несомненно, точно — что не надо даже оговаривать, поскольку имя Исроэла Некрасова говорит само за себя. Но и самый блестящий переводчик не застрахован от описок и нуждается в редактуре, которой в этой книге хватает не всегда. Вот пример: в одном месте сказано, что младший сын мамы Мендла от первого брака — Мойше, в другом — что Йойна. Так кто же старший?
Комментариев нет:
Отправить комментарий