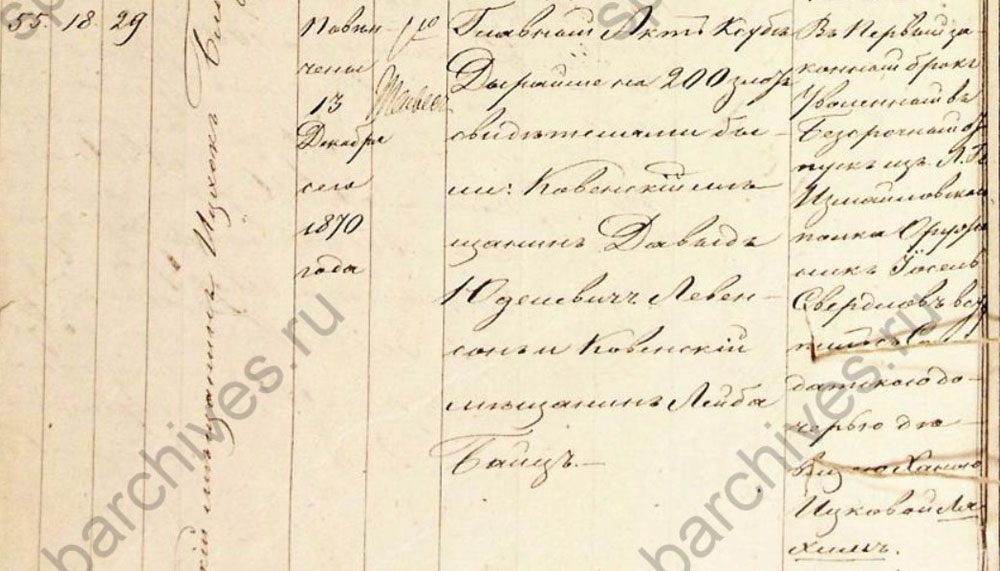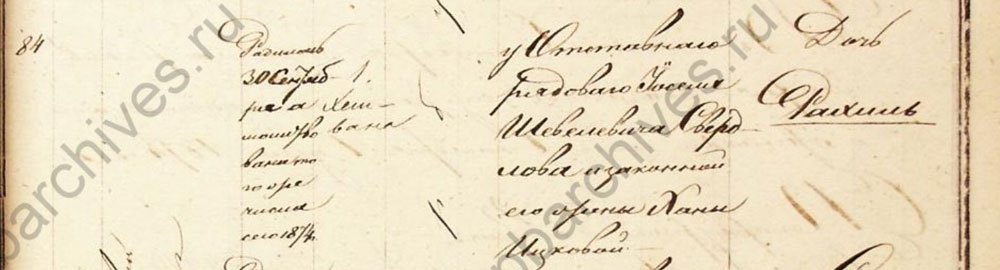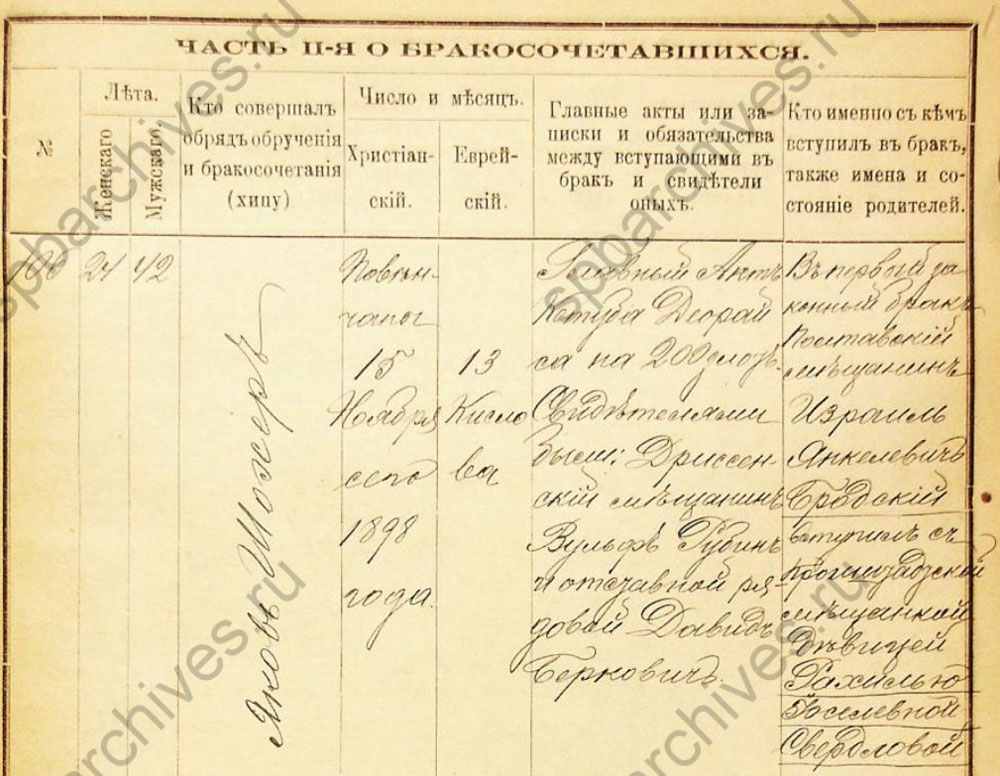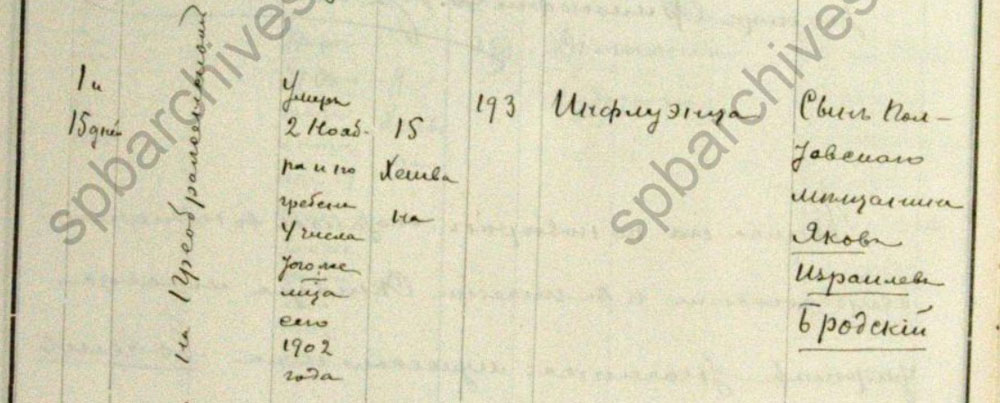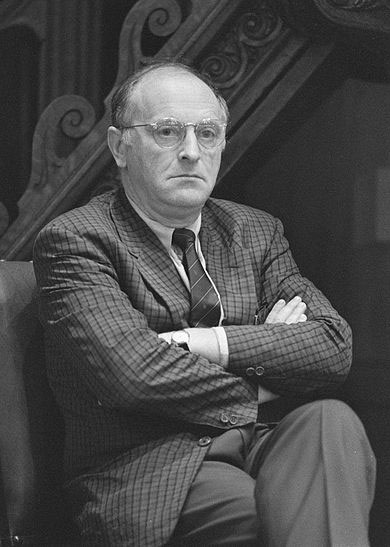ЭФРАИМ БАУХ
СОВМЕСТИМО ЛИ ДВУЛИЧИЕ С ВЕЛИЧИЕМ…
С легкой руки Александра Сергеевича Пушкина, с учетом всего, что произошло
со времени его гибели и по сей день, дискутируется вопрос: совместимы ли гений
и злодейство? Уже много лет занимаясь личностью последнего великого немецкого философа
Мартина Хайдеггера, я не устаю думать – совместимо ли величие с двуличием?
Мартину Хайдеггеру, разрабатывающему в 30-е годы, накануне провала
Германии в черную дыру нацизма, радикальное русло своей философии, и в голову
не приходит прислушаться к теориям какого-то там музыковеда, да еще еврея,
Теодора Адорно (Визенгрунда). В те же 30-е годы в своей книге «Актуальность философии» Адорно
пишет о том, что идеализм, неокантианство, «нереализованная рафинированная и
амбициозная феноменология Гуссерля», «примитивный иррационализм» Хайдеггера,
догмы марксизма, — все эти теории, по сути, являются возвращением на круги
своя с одной только целью: обслуживать власть. Уже это само по себе
отбрасывает евреев, ибо они всегда безвластны.
Преступная двусмысленность классической немецкой философии именно в
том, что она, раболепствуя перед «государственностью», воспринятой в идиллическом ореоле Древней Греции,
еще устами молодого Гегеля предрекает евреям их судьбу. Гегель отказывает
евреям в трагедии, имея в виду их «вялую животность... полное уродство и...
пассивность», их неспособность «умереть евреями». Только прислушайтесь к
неопровержимому «гласу» Гегеля: «...
Великая трагедия еврейского народа — это не греческая трагедия, она не может
пробудить ни страха, ни сострадания». Немцы помнят своего непререкаемого гения
– Гегеля и, думая о своем будущем, держат слова Гегеля в уме. В
германском народе не только не пробуждается страх и сострадание, он их
перешагивает – уничтожением этого не умеющего быть трагичным (какое
преступление!) народа. Согласно пророчеству Гегеля, который продолжает
вещать:
«Все состояния еврейского народа, вплоть до самого гнусного, самого
постыдного, самого отвратительного, в каком он пребывает еще и в наши дни,
являются последствием развития изначальной судьбы евреев. И связана она с тем,
что бесконечная мощь, которой они упорно противостоят, с ними всегда грубо
обходилась, и будет грубо обходиться до тех пор, пока они не умиротворят ее
духом красоты и тем самым не упразднят свое упрямство духом примирения". Несмотря
на отдаленность во времени, это уже звучит как грозное предупреждение евреям
великого немца: не исправитесь — пеняйте на себя. Осталось только в ногу со
временем и новыми достижениями техники, «бесконечной мощью» немецкого духа
этих упрямых евреев укротить. Укоротить на голову. Хайдеггер, в отличие от
Гегеля, евреев не упоминает. Но в его патетическом контексте, где главенствуют
«почва», «корни», «кровь», «родина», евреи вытесняются за рамки Бытия и
Времени, ибо у них ничего этого нет. Рамки эти обретут реальный вид заборов,
окутанных колючей проволокой. Туда и будут "заброшены евреи навстречу
своему будущему», вместе со своим Богом, ибо за колючей проволокой, в ожидании
смерти, нет атеистов. Этот подспудный и, как мы видим, даже наследственный,
тевтонский экстремизм, вырвавшийся у Хайдеггера в 30-е годы, одновременно с
его вступлением в национал-социалистическую партию, глаз, наметанный на
терроре, различал уже под изысканной вязью и очаровывающим философским языком
его главной книги "Бытие и Время». Очарование приходит от «глубинного»
понимания поэтического языка», который, по Хайдеггеру, страстному ценителю
выдающегося немецкого поэта
Фридриха Гёльдерлина, является «изначальным» языком Бытия. Гельдерлин
сопровождает Хайдеггера через всю его жизнь. Он ведет его по Древней Элладе,
открывая все, что близко и дорого сердцу Хайдеггера, который отказывается от
присущего ему ранее традиционного систематического мышления в стиле Канта и
Гегеля, предполагающего научную точность и строгую законченность мысли. Он избирает
стиль медитативный, с элементами поэзии и мистики, стиль под влиянием в
первую очередь Гельдерлина и Ницше. Не подобно ли очарование языком Хайдеггера,
который специалисты считают одним из величайших достижений философской прозы,
очарованию гипнотическим
взглядом змеи, заставляющим кролика замереть перед гибелью?
Не добр ли Хайдеггер добротой флейтиста из Гаммельна, который вначале увел
всех крыс, а затем и детей городка в Мертвую гору только за то, что жители
оказались неисправимыми скупердяями? Не просвечивает ли и здесь тема еврейской
жадности к богатствам, которая по сей день греет немецкие души?
В своей поэме «Крысолов» о том же гаммельнском флейтисте Марина Цветаева
повторяет вопрос, заданный Богом Адаму, когда тот скрывался, съев запретный
плод: «Адам, где ты?» Но вопрос по-немецки звучит так: «Человек
(«адам» на иврите), где ты? — Mensh, wo bist du?» Где твое человеческое начало? Кажется, вопрос
этот может быть адресован и великому философу.
Книга Рудольфа Сафрански, вышедшая, в том числе и по-русски, замечательна
уже своим названием — «Хайдеггер. Германский мастер и его время». Вспомним
лейтмотив о «старом немецком Гросс Мейстере» из «Фуги смерти» Пауля Целана. В 30-е годы долгое, подспудное «настойчивое
вопрошание» Хайдеггера переходит в активные действия. В 1933-м он обдуманно,
по глубинному зову души, вступает в национал-социалистическую партию и платит
взносы до 1945 года. Обвинительным материалом на его послевоенных судах служит
его красноречие эпохи тех же «боевых» 30-х. Воспитательный пафос учителя
молодого поколения, по сути будущих солдат вермахта, учителя, особенно
симпатизирующего студентам-«активистам», ставшим базой штурмовых отрядов Рема,
производит впечатление в
«ректорской речи» Хайдеггера. В ней он говорит о «движении», которым подвигнут
«народ как силой самого интимного своего порыва и силой самого обширного
потрясения своего существования (Dasein)». Это он повторяет в своем выступлении перед рабочими Фрейбурга 30
октября 1933 года, а затем и в докладе, произнесенном в Гейдельберге. В Тюбингене, во время летнего семестра,
прочитанный им в лагере перед студентами и преподавателями доклад он завершает
словами: «Учиться — значит отдаваться самому себе, основываясь на прирожденном
обладании своим существованием как
члена некоего народа, и осознавать самого себя как содержателя истины этого
народа в его Державе».
Но апогеем, несомненно, является речь Хайдеггера, призывающая поддержать
Гитлера на плебисците 12 ноября 1933 и начинающаяся следующими словами:
«Немецкий народ призван к избирательным урнам Фюрером. Но Фюрер от народа
ничего не требует. Совсем наоборот. Он предоставляет народу самую
непосредственную возможность в высшей степени свободного решения: весь народ
целиком решит, хочет ли он свое собственное существование (Dasein) или не хочет. Завтра народ изберет не больше и не меньше, чем свое
будущее». В июне 1938-го, завершая цикл докладов на тему новой европейской
картины мира, прочитанных перед Обществом искусствоведения, естествознания и
медицины во Фрайбурге, Хайдеггер, явно под влиянием Гельдерлина и Ницше,
говорит:
«Пятое явление Нового времени —
обезбожение. Это выражение не означает простого изгнания богов, грубого атеизма.
Обезбожение — двоякий процесс, когда, с одной стороны, картина мира
расхристианизируется, поскольку вводится основание мира в качестве бесконечного,
безусловного, абсолютного, а с другой — христиане перетолковывают свое
христианство в мировоззрение... и таким образом сообразуются с Новым временем.
Обезбожение есть состояние принципиальной нерешенности относительно Бога и
богов... Но обезбожение настолько не исключает религиозности, что, наоборот,
благодаря ему, отношение к богам впервые только и превращается в религиозное
переживание. Если до такого дошло дело, то боги улетучились. Возникшая пустота
заменяется историческим и психологическим исследованием мифа».
Слово сказано: Бог заменен
«мифом».
В годы войны (1939-1941) именно у
Гёльдерлина берет Хайдеггер идею «бегства богов» и различения между Святым,
Божеством (Gottheit) и Богом (Gott). «Бегство богов», определяемое Гёльдерлином как утрата Святого, обозначается
Хайдеггером как «забвение Бытия».Умение Хайдеггера «забывать Бытие» в связи с Катастрофой стало прецедентом
в европейской философии XX века. Причиной ли тому политика, или это черствость, глухота к страданиям
других, как выражение глубокой ущербности души философа? «Дело» Хайдеггера было
поднято французскими философами-постмодернистами. Только они, представители
европейской философской нации, в отличие от двух других — немецкой и русской,
— по макушку погрязших в тоталитаризме, сохранившие в чистоте философскую
совесть, имели право на этот иск Хайдеггеру. Может быть, еще и потому, что были,
в основном, детьми во время войны..
Французские философы предъявили также иск своим коллегам XVIII -XIX веков, так и не снятый с повестки дня за
давностью лет, иск против их философско-просветительской и социальной
агрессии, приведшей к Французской революции, которая развязала террор. И дело
Хайдеггера они однозначно подводили под рубрику «Политическое преступление».
Вторая мировая война завершилась
тотальным поражением нацистской Германии. И первыми обвиняемыми, естественно,
были члены национал-социалистической партии, в списках которых победители не
отличали гестаповца или эсэсовца от ученого, будь он трижды великим философом.
Что с того, ведь он до последнего дня существования партии с немецкой аккуратностью платил
взносы, более того, в последний год войны, в возрасте 55 лет, призван был в
ополчение.
И все же в силу некоторого стечения обстоятельств ему, широко известному в
мировых философских кругах, удалось избежать участи норвежского классика Кнута
Гамсуна, восхвалявшего нацизм и едва не осужденного на смертную казнь. Хайдеггера всего лишь отстранили от преподавания
на шесть лет, до 1951 года. Об этом с некоторой «обидой» и германским
высокомерием, пусть и едва ощутимым, говорит ученик Хайдеггера Вальтер Бимель,
небрежно и походя упоминая «оккупационные власти», запретившие любимому
Учителю преподавать.
Но в первые годы после войны при любом упоминании имени Хайдеггера
всплывала его связь с нацизмом. Адвокаты ученого говорили о его почтеннейшем
облике, о католической шапочке на голове профессора, о величии его философской
системы, которая как бы целиком занимала его жизнь, так что он отбрасывал все
земное или отдавал ему поспешную дань, чтобы отвязаться. И вправду, почтенный
лик Хайдеггера не вяжется с отвратительными чертами нацизма.
Нам, с советским опытом жизни, знакомо явление, когда крупные личности
вынуждены были вступать в партию, зная, что идут на сделку с собственной
совестью. Во имя преуспеяния в этой подлой среде в ход шло все — маневры,
доносы, уступки, подсиживания. Положим, советские философы, эти
попугайствующие евнухи «марксизма-ленинизма», не заслуживают сравнения с великим
немецким философом, но тем более велика его вина.
Да, Хайдеггер через год (1934) оставляет ректорство, но остается членом национал-социалистической
партии. Он не может не знать о развязанном ею жесточайшем терроре, в первую очередь,
против евреев. Но он молчит. Это молчание ощутимо в его речах и докладах — меж
тем, как иные из студентов его, став штурмовиками, бьют стекла еврейских
магазинов, поджигают синагоги, отрезают бороды евреям. Но после поражения
Германии его затянувшееся на всю оставшуюся жизнь молчание — поистине
скандально. Его сверстники и коллеги в науке, вынужденные в те годы набрать в
рот воды, пытались объяснить это его молчание — онемением перед неописуемым и
не выговариваемым «ужасным»,обнажившим понятия «страха» и «бытия-к-смерти». На
руинах немецкой философии его последователи, ученики, в пику предъявляющим иск
французам, продолжают относиться к философии Хайдеггера как к единственно
оставшемуся сокровищу. Они демонстративно развивают проекты, исходя из его
философии. Достаточно назвать проекты «феноменологии литературы» Эмиля
Штайгера, «экзистенциальной («демифологизированной») интерпретации Нового
Завета» Рудольфа Бультмана, не говоря уже о его прямых последователях, о таких
крупных мыслителях, как Ганс Георг Гадамер. В полный же голос против этого
«зловещего молчания» Хайдеггера выступали те немецкие ученые-евреи, которые
вернулись из эмиграции, люди, сумевшие
сбежать от нацистов. И в первую очередь, упомянутый Теодор Адорно, который
говорил о том, что после Освенцима «прочитываемый философией текст полон лакун
и контрастов, что трудно не приписать демонической слепоте. По Адорно, эпоху
по-настоящему представляют те, кто прошел круги ада, и не деградировал в
неравной борьбе с палачами. Безымянные мученики концентрационных лагерей
стали символом человечности, и «задача философии — перевести все это на язык
слов, чтобы люди могли услышать голоса, превращенные тиранией в молчание». Но
Хайдеггер не только молчит по поводу Шоа и вообще войны, развязанной его
народом, ввергнувшей в бездну 61 страну и унесшей более 60 миллионов
человеческих жизней. В своих выступлениях в 1953 году, он
по-прежнему твердит о «внутренней истине и величии движения», пребывая на своем
незыблемом Олимпе, на Мертвой горе.
В 1949 году, еще находясь в отлучении, Хайдеггер продолжает разрабатывать
тему упадочничества Запада под влиянием вторжения техники в Бытие. И тут он
отстраненно, словно человек с иной планеты, а по сути, с предельным цинизмом
единственный раз упоминает о массовом уничтожении: «Сельское хозяйство является теперь
механизированной пищевой промышленностью. По своей сути это – то же самое, что
производство трупов в газовых камерах и лагерях смерти, то же самое, что
экономическая блокада и доведение до голода страны, то же самое, что
производство водородной бомбы». Хайдеггер ставит в один ряд закатывание в
банки овощей, производство трупов в газовых камерах и реакцию превращения
водорода в гелий. Причем, если водородная бомба указывает на ее создателей и
воспринимается как преступление против будущего человечества, то в тени ее
остаются, в спасительном неразличении и безвестности, те, кто с таким усердием
занимался производством трупов. В те первые годы после войны Хайдеггер
продолжает начатую им в 1943 году тему «лесной просеки и тропы». В 1947 году
предмет его размышлений рождает текст «Проселок. Из опыта думанья». Думанье —
«о человеческой сущности». «Простое теперь еще проще прежнего. Извечно, то же
самое настораживает и погружает в покой...» — пишет Хайдеггер. Спрашивается:
что же было прежде? Гибель, гибель, боль, которую не исчерпать веками. Кого настораживает
«то же самое»? Нас? После Шоа от какой «человеческой сущности» еще отрекаться?
Кого погружает в покой?
И все это говорит Хайдеггер, вспоминая которого, держишь в уме простой,
«проще прежнего», вопрос: кто развязал две мировые бойни? О каком покое говорит
Хайдеггер, ссылаясь на желание любимого им средневекового немецкого мистика
Мейстера Экхарта — «Оставить мир в покое». Да ведь потомки мистика и
соотечественника философа не оставили мир в покое, а чуть не отправили его в
тартарары.
Современный взрыв антисемитизма в Европе побуждает каждого, кто не разучился
мыслить, обдумать «дело» Хайдеггера. Его принципу «настойчивого вопрошания»
противостоит иной, иудейский — вгоняющий в депрессию, но единственно
продуктивный способ вопрошания. В XX столетии старая пушкинская формула несовместности гения и злодейства была
отменена самим ходом вещей. Примером такой совместности служит судьба Мартина
Хайдеггера — великого немецкого философа и рядового члена
национал-социалистической партии — до последних мгновений ее издыхания. А
посреди бездны Шоа, в концлагере у села Табарешты, на юге Молдавии,
молодой, двадцатидвухлетний еврей из Черновиц Пауль Лео Анчел копает землю и
копает, и землистый цвет депрессии не сходит с его лица. Чудом выжив среди
этого кошмара, уцелев благодаря случайности, он еще не знает, что родители его
находятся в концлагере у села Михайловка на реке Буг, что матери его пустили
пулю в затылок. Пауль – из Буковины, страны буков – Buchenland, которая тянется на запад, переходя в буковый лес — Buchenwald.
Тут рукой подать до Тодтнауберга (Мертвой горы). А там, среди этого пространства
тотальной гибели, в пасторальной тишине леса, гуляет по столь торжественно им
воспетой «лесной просеке» Мартин Хайдеггер. Гуляет и размышляет, как ни в чем
не бывало,о классической немецкой философии и поэзии. Он, общающийся лишь с
великими – Гете и Гельдерлином, – соизволит
встретиться с Паулем Анчелом через два десятилетия после того, как Анчел
в начале 1945-го пересечет советскую границу. В тот год через Черновицы
какое-то время выпускали евреев. Не задерживаясь в традиционно антисемитской
Румынии, Анчел переберется в Вену, где в 1948 году выпустит на немецком языке,
который, наряду с румынским, был его родным языком, свою первую книгу стихов
«Песок из урн». Опубликованная в этой книге «Фуга смерти», воистину великий
реквием погибшему в «бездне Шоа» народу Израиля, мгновенно переведенная на
многие языки и по сей день потрясающая мир, вознесет Пауля Анчела на едва
приходящий в себя европейский Парнас. Расколов свою фамилию надвое и
переставив слоги, Ан-чел на Че-лан, по-немецки — Zelan, по-французски — Сеlаn, он и станет Паулем Целаном. Это он, поэт
Пауль Целан, вместе с философом Эммануэлем Левинасом, удостоятся судьбой
сказать истинное слово о «бездне Шоа-Гулаг», найти идею существования и его
язык «после Аушвица». Именно им будет дано – подступиться к чудовищной логике
этой бездны. Вступить в ее оголенное пространство по лезвию безумия, сохраняя
душевное равновесие, в случае с Левинасом, или отступить в забытье, в
безмолвие, до пресечения собственной жизни, в случае с Целаном. Философ ощущает
ответственность перед Историей. Поэт несет ответ лишь перед собственной душой. Для
души, прошедшей ад, не существуют знаки препинания, препоны точек.Запятые идут
на попятную. Все распалось. Сплошной безмолвный крик. Вариации как
повторение смерти. Контрапункт гибели вместо пунктуации.
«Die Todesfuge»(перевожу
с оригинала) –
Фуга смерти
Черный напиток вне пыток
мы пьем его на ночь мы пьем его в полдень и утром мы пьем его ночью
мы пьем его пьем
копаем могилу в разлете ветров там не тесно лежать
в доме живет человек забавляется змеями пишет письмо
в сумерках пишет он в Дойчланд волос твоих золото Гретхен
спускается вниз при мерцании звезд спускает собак
свистком созывает жидов копайте могилу в земле
играйте и пойте
Черный напиток вне пыток мы пьем тебя ночью
мы пьем тебя утром и в полдень мы пьем тебя на ночь
мы пьем тебя пьем
в доме живет человек
забавляется змеями пишет письмо в сумерках пишет он в Дойчланд волос твоих золото Гретхен
пепел волос твоих Шуламит
мы копаем могилу в разлете ветров там не тесно лежать
он рявкает глубже копайте лентяи пляшите и пойте
он пальцем голубит металл пистолета глаза у него голубые
поглубже копайте живее играйте веселый мотив
Черный напиток вне пыток мы пьем тебя ночью
мы пьем тебя в полдень и утром мы пьем тебя на ночь
мы пьем тебя пьем
в доме живет человек волос твоих золото Гретхен
змеящийся пепел волос твоих Шуламит он змей приручает
кричит понежнее играйте про смерть
смерть это старый немецкий Гросс Мейстер
кричит он касайтесь сумрачней скрипок взмывайте смелее ввысь
к могилам в разлете ветров там не тесно лежать
Черный напиток вне пыток мы пьем тебя ночью
мы пьем тебя в полдень смерть это старый немецкий Гросс Мейстер
мы пьем тебя утром и на ночь мы пьем тебя пьем
смерть это старый немецкий Гросс Мейстер и глаз у него голубой
пулей настигнет тебя он стрелок преотличный
в доме живет человек волос твоих золото Гретхен
он свору спускает нам дарит могилу в разлете ветров
мечтательно змеями кружит он смерть
это старый немецкий Гросс Мейстер
волос твоих золото Гретхен
пепел волос твоих Щуламит
Пауль Целан, выживший в аду, попытался пробить стену поистине
«потусторонней», каменной глухоты Хайдеггера, и, добившись встречи с герром
профессором, прочесть ему «Фугу смерти» — о старом германском Гросс Мейстере.
Профессор принимает его на Мертвой горе (место жительства Хайдеггера —
Тодтнауберг). Но ни одна жилка не дрогнула на профессорском лице. Поэт разочарован
филистерством великого философа, не в силах понять молчание того по поводу
Шоа. У Пауля Целана, после всего пережитого — устойчивая неприязнь к тоталитаризму.
В Австрии еще находятся советские войска, и Целан перебирается во Францию,
благо в кающейся Европе в те годы еще царит особое расположение к оставшимся в
живых евреям.
После всего, что с ним случилось, Пауль Целан не может найти себе места.
Внутренний зов души встречается с самим собой — нисходящим с высот.
Называется это верой. Но небольшой сдвиг обозначает, быть может, более
важное слово — «верность» — верность этой вере. Цена этой верности высока:
унижения, гонения, смерть близких, одиночество. Выдержать ее трудно,
извериться («Где Он был, когда...») еще труднее. Зов этот изводит душу болью,
может извести из жизни. В мае 60-го он встречается в Цюрихе с Нелли Закс,
разделившей Нобелевскую премию с Агноном, которую Целан зовет «сестрой». По
несчастью. Она для него источник еврейской мудрости, она ему советует посетить
Израиль. В сентябре того же года Целан сразу же после того, как вернулся из
Стокгольма, где вновь пытался встретиться с Нелли Закс, после всего ею
пережитого в «бездне Шоа» впавшей в помешательство и не желающей
его принять в клинике, посещает
восьмидесятидвухлетнего Мартина Бубера, живущего в Израиле и временно
находящегося в Париже.Целана гложет сомнение: имеет ли право еврей писать на
языке убийц?
Старик, лично не переживший Шоа, то ли не понимает этого сорокалетнего
человека, прошедшего ад, который Бубер и представить не может в свои 82, то ли
притворяется, что не понимает. Во всяком случае, он считает делом вполне
естественным — «простить» и спокойно издаваться на немецком и дальше. Проглатывая обиды от всех этих столь
неудавшихся встреч, Целан размышляет над ними, пытаясь найти то, что их объединяет.
Одиночество и не отступающую боль души не может излечить настигшая его
литературная слава — статьи и монографии о его творчестве публикуются в
Германии, Румынии, Израиле. Каждая из этих стран считает его своим. Еврей,
родившийся в Румынии, пишущий на немецком, он удостоен престижной германской премии имени Георга
Бюхнера.
Но после смерти Нелли Закс единственным духовно близким и, в значительной степени, вдохновителем его
творчества становится Осип Мандельштам. Свободно владеющий русским языком,
Пауль Целан переводит его стихи. Со всем, множеством аллюзий, образов, метафор,
обращений и посвящений в его стихах присутствует Мандельштам. В книге стихов
Целана «Роза никому», начиная с названия и до конца, шествует, уходит и
возвращается Мандельштам, втягивая за собой в стихию книги Андрея Белого и
Марину Цветаеву, самоубийство которой не дает покоя Целану. Преуспевающий поэт
в европейской Мекке литературы — Париже, он – вечный узник «бездны Шоа». Пауль
Целан через пространства и время жизни, ставшее в момент гибели того, другого,
вечностью, протягивает руку и саму свою жизнь узнику той же бездны, пусть и с другим названием — ГУЛаг,
единственной, родственной в мире душе — Осипу Мандельштаму. Что это за название
книги — «Роза никому»? Из каких ассоциаций вытягиваются эти два слова?
Название навеяно стихотворением Мандельштама «Дайте Тютчеву стрекозу —
догадайтесь почему! Веневитинову — розу. Ну, а перстень — никому». Перстень-то
из пушкинского стихотворения «Талисман» с выгравированным в нем на иврите
именем владельца, которое Пушкин принял за магические каббалистические знаки.
Мы-то все время ищем объяснения в языке русском, забывая, что Целан существует
в немецком языке. Пути мировой поэзии неисповедимы. Образ розы, вытягивающийся
на долгом стебле из немецкого средневековья вагантов, уже в двадцатом году
(год рождения Целана) смутно вплетается в трагическое предчувствие Мандельштамом
собственной судьбы:
Сестры — нежность и тяжесть — одинаковы ваши приметы.
Медуницы и осы тяжелую розу сосут.
Человек умирает. Песок остывает нагретый,
И вчерашнее солнце на черных носилках несут…
Это стихотворение, так совпадающее с
мировосприятием Целана, ощущающего в груди неизбывную «тяжесть камня» бездны,
не отпускающей душу на покаяние, можно увидеть как развернутый реестр метафор
книги Целана — «тяжести и нежности», «медуницы-медянки» (змеиное, вплетающееся
в мед), «черного солнца», «земли-чернозема» и, главное, «камня». Целан видит
Мандельштама то прозрачнокрылым мотыльком, висящим между дроком и камнем, то
самого себя, вместе с Мандельштамом поющим «Варшавянку» (Мандельштам родился в
Варшаве), вместе с ним читающим Петрарку «в уши тундре». В стихотворении о
посещении цирка во французском городе Бресте впрямую звучит строка -«...Я
видел тебя, Мандельштам». Фамилия эта — немецкая. Означает — «ствол миндаля».
Вокруг «миндаля» Целан разворачивает целую феерию: «...потому что зацвел
миндаль. Мандель. Мандель-сон... Но не льнет он, миндальник... Что ждет в
миндалине? Ничто.. Твой глаз у миндалины ждет...»
Наконец — восьмистишие, в котором Целан жаждет слиться с духом, вечно
живой тенью Мандельштама, первая книга стихов которого так и называлась – «Камень».
Камень глыбой пал с высоты.
Кто проснулся? И я и ты.
Речь. Co-звезды.
При-земли. Годы.
Породнились мы нищи и голы.
И куда все ушло? Вот и стяжка
Нас двоих — уже вдалеке.
Сердце в сердце — везучие тяжко
И везущие налегке.
Знаменательно в судьбе Целана стихотворение «С книгой из Тарусы», посвященное
Марине Цветаевой с ее знаменитой строкой «Все поэты жиды» в качестве эпиграфа.
Как бы косвенно, избегая и притягиваясь к парижским мостам, Целан пишет о том,
что Ока не затекает под мост Мирабо (ему посвящено знаменитое стихотворение
Гийома Аполлинера «На мосту Мирабо») и что «кириллицу, друзья, я перевез через Сену и Рейн». Он не может оторвать взгляда,
гипнотически прикованного к столу, «на котором это свершилось». Стол,
назначенный поэту для творчества,
может стать опорой ног, чтобы приподняться на кончиках пальцев и надеть на шею
петлю.
Безумие бездны никогда и никуда не отпускает своих жертв. Безумие «бездны
Шоа-Гулаг», поглотив в 38-м Мандельштама, через тридцать два года догонит
родственную ему душу. Убегая от преследующего его удушья газовой камеры, убегая
от пламени безвоздушной, бездушной стихии крематория, человек ищет спасения в
стихии охлаждающей, в стихии водной. Весенним вечером 1970 года Целан бросится
в Сену с одного из парижских мостов и сразу камнем уйдет на дно. Близкие,
пришедшие опознать тело, скажут, что погибший плавать не умел. Прыжок был явным
самоубийством. В Израиле, который он посетил однажды по настоянию Нелли Закс,
но так и не решил остаться, его бы похоронили по иудейскому обычаю. Тут же, на
чужбине, он так и не избежал кремации.
Жене и сыну досталась кучка пепла, а дух ушел дымом к тому сожженному в
печах народу Израиля, к которому он принадлежал всей своей судьбой и который
воспел, если можно употребить это патетическое слово после Аушвица, в своем
творчестве.