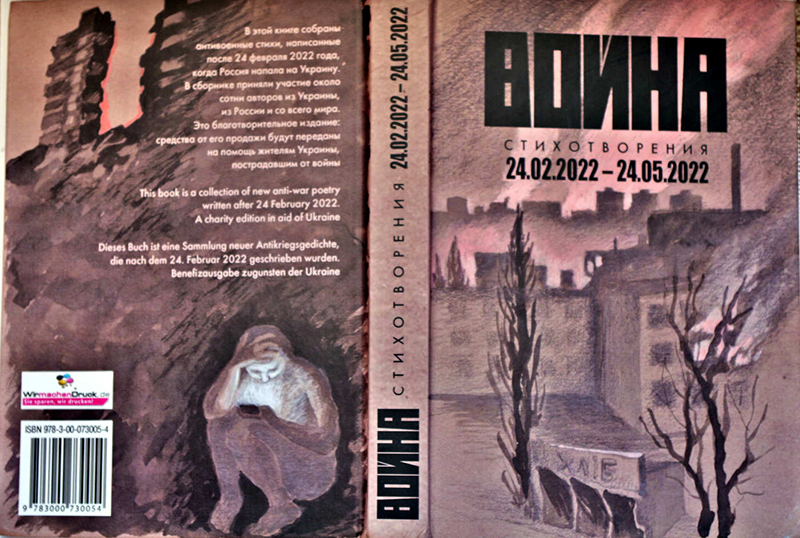Публикуем последнюю главу докуромана Владимира Соловьева-Американского “1993. Глоток свободы, или закат русской демократии” – по прямой аналогии с последними событиями в России”.
Глоток свободы, или закат русской демократии
Исторический докуроман в семейном интерьере на четыре голоса
Продолжение. Начало в предыдущих выпусках
- MEA CULPA
Это не я в него стрелял, но я об этом думал все эти окаянные дни – и вот материализовалась, но помимо меня. Кто-то другой осуществил мое желание, освободив от чувства вины. Нет, не тот случайный снайпер, выпустивший пулю, когда мы попали в засаду, последний, наверное, очаг сопротивления в этом бедламе. Что с бедолаги взять, когда он выполнял чужую волю и через мгновение был мертв. Я успел выстрелить из Макарова, но было уже поздно. Проклятие, никогда себе не прощу, замешкался, запутался, кто свои, кто чужие, mea culpa, от меня пагуба, кто спорит, стрелять надо без промедленья, свои такие же враги, как чужие, нет разницы, промедление гибели подобно, сам бросил на алтарь идей единственного на всем свете родного человека. Родина или Ифигения? Я сделал свой выбор. Меа culpa.
В действительности все произошло не так, как на самом деле.
Бой затих, хоть время от времени доносилась спорадическая стрельба да сверху несло гарью – верхние этажи горели. Мы пробирались по лабиринту бесконечных коридоров и лестниц без всяких предосторожностей, и единственной опасностью было схватить воспаление легких от гулявших здесь продувных ветров, на этом историческом сквознячке, устроенном супостатами. На ногах не стоит человек – вот мы и бежали, подхваченные попутным ветром, к выходу, прочь от этих огольцов и погорельцев, c этого перекресточка, где какую дорогу не выберешь, всюду разор и смерть. Подстраховываясь, я выбрал подземный город, чтобы выйти наружу как можно дальше от БД. У меня была припасена карта этой тайной Москвы, и мы уже были совсем рядом.
Все было ОК, пока на третьем этаже не натолкнулись на засаду – боевик в камуфляже наставил на нас свой Калашников. Я успел вытащить Макарова, но в это время сзади раздался шум и появился еще один герой – омоновец. Мы попали в переплет, я крепко держал Катю за руку, позабыв про Иосифа, да и не нянька я ему, жесткий рабочий прессинг, не до него. До сих пор не пойму, что ему взбрело в голову, почему вдруг высунулся навстречу смерти? Сам подставился, я здесь не при чем. Что говорить, эмоционально он был в этот день в расхристанном состоянии, полная прострация, но чтобы это была попытка самоубийства? А какое еще объяснение? В любом случае, он сам сделал роковой шаг и тут же вдруг весь обмяк и рухнул, как подкошенный – его срезало автоматной очередью. Вот тогда Катя и вырвалась, но добежать до Иосифа не успела – боевик обхватил ее сзади и, держа на прицеле омоновца, стал вместе с ней отступать, и моя Катя была живым щитом. Здесь я и растерялся, замешкался, вместо того чтобы тут же, немедля застрелить омоновца, и тот успел выпустить очередь – убил боевика, но и Катю задел – перед тем, как я уложил его из Макарова.
Никогда не забуду их лица – омоновца и боевика: неотличимы, как близнецы, вихрастые дебилы с голубыми глазами, двойники, на одно лицо, одно лицо. Им все равно, кого убивать – мне все равно, кого убивать. Вот почему я замешкался, проклятие, проблема выбора, два одинаковых лица, раздвоение мишени – в кого целиться? Все произошло в считанные секунды, но я опоздал. Катя запрокинулась вдруг на спину, я бросился к ней – к моей ласточке, к моему подранку, к моей соломинке, за которую я цеплялся из последних сил. Слава Богу, жива! Она слегка постанывала, и эти ее стоны, которые в любое другое время привели бы меня в отчаяние, сейчас веселили сердце и вселяли надежду. Вытащил зачем-то у Иосифа из кармана его американский паспорт, последний раз глянул на школьного моего друга и потащил Катю к бункеру.
Легкое тело, легкое прерывистое дыхание, ангел во плоти. Господи, ее то за что? Пропади она пропадом, эта страна, которой служу не за страх, а на совесть, с ее гибельными инстинктами и вечной тягой к самоубийству, отступаюсь – только Катю верни. И чуда никакого не надо, она жива, слегка постанывает, рана пустяковая, не в грудь и не в голову, а так только – в живот, и крови совсем немного, но время, время, время – вот кто мой враг, враг номер один, нет – номер два, а враг номер один – Россия, которая подстрелила мою девочку, будь проклята во веки веков, хоть и так проклята, без моих проклятий.
время время время время время
время
время
время
время
Я не сразу нашел вход в подвал, там уже набилось порядком, железную дверь заклинило, пришлось взорвать. Меня пропустили с моей легкой ношей. Нашлись даже носилки, и неведомо откуда взявшийся панк поднял другой их конец.
Сначала попали в бомбоубежище, а там тупик, и только тогда вышли на второй уровень бункера, но там тоже блуждали, а потом снова возились с дверью, толстой сейфовой дверью, но уже по другую сторону, задраивая ее, чтобы отсечь ринувшиеся было за нами толпы. Карта мне не понадобилась – нас вели профессиональные спелеологи.
Катя постанывала, затихала, бормотала что-то невнятное, но я не прислушивался, о чем теперь жалею со страшной силой. Обо всем жалею – о том, что не прислушивался, что сам пустил ее в Белый дом, не уберег, не уследил, свел с Иосифом, сам погубил.
Меа culpa.
Я оглянулся. Кого здесь только не было, каждой твари по паре, омоновцы и боевики, ребята из Комитета, отставной генерал при всех регалиях, офицерье, живые и мертвые, которых живые бесцеремонно тащили за ноги, какой-то парень тренькал на гитаре “Ой, да не вечер”, пытаясь перекричать грохот мчащихся поездов – мы были уже рядом с “Краснопресненской”. Надежда светилась в моем мозгу, как свет в конце туннеля.
…Снаружи раздался мощный взрыв, сверху посыпались камни. Боевики внесли раненых – Фазиль лежал с закрытыми глазами, тихо постанывая, будто даже с удовольствием, как женщина в любви. Я взял его руку, и он ответил мне, ему, наверное, казалось, что он крепко держится за меня, но это было слабеющее пожатие, он ускользал из жизни, мой маленький возлюбленный, и не было никаких сил задержать его в ней. Моджахед задрал на нем окровавленную рубашку и внимательно осмотрел рану. Потом отвернулся и пошел прочь.
Единственное, что у меня было – это его же самодельные пакетики с нассуаром, я разжал ему ножом зубы, высыпал в рот порошок и влил немного воды из фляги. Часть этого месива, пенясь, разлилась по его лицу, но он все равно улыбнулся, не открывая глаз. Я старался не глядеть на изуродованную осколком грудь и говорил ему самые ласковые английские слова, какие знал, но голоса своего не слышал – кругом стояли стоны и крики, прерываемые только грохотом снаружи, и моджахеды вносили в пещеру трупы и раненных. Это было поражение – и это была победа, я больше не знал, на чьей стороне, военнопленный по доброй воле, я был заслан к моджахедам, как теперь в БД, всюду двойная роль – провокатор или информатор? мудрено не запутаться, я служил тем, кто губил мою душу, отсекая от нее Фазиля, Катю, но невредимым сохранял мне тело, чтоб длить муку. А какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою повредит? Еще одна цитата все равно откуда.
Я устал провожать мертвых и оставаться живым. Жизнь постыла, а смерть не шла, обходила стороной, берегла для будущего, избрав своим орудием. Все мои печали сошлись в одну точку, и этой точкой был Фазиль, а теперь Катя, и от их спасения зависело что-то еще, а что – понять не могу. Жизнь я отбывал как наказание и, не задумываясь, отдал бы ее, чтобы жил Фазиль, чтобы жила Катя. Его рука была еще теплой, но сам он уже где-то далеко-далеко, на пути в рай, куда по законам Корана, должен был неминуемо попасть, потому что умер шахидом, мучеником, во время джихада. Шурави убили его, я шурави, это я убил его.
И тут я услышал свое имя:
– Волков, Волков, – бормотала, звала Катя. – Зачем ты это сделал? Зачем ты убил его?
До меня не сразу дошло. Видит Бог, я не убивал его! Я уложил омоновца, но опоздал – он уже подстрелил мою девочку.
– Я не убивал его, – сказал я Кате.
– Он жив? – неправильно поняла меня Катя.
– Жив, – солгал я, хоть сам видел, как он рухнул. Как знать, может жизнь еще теплилась в его теле.
– Жив, жив… – шептала и плакала Катя, а потом снова забылась и только постанывала, как Фазиль.
Я не убивал его, хоть и был резон, я желал ему смерти и почувствовал облегчение, гора с плеч, когда его подкосило, упал замертво.
Пусть не вешает на меня это убийство – сам засветился, сам подставился, сорви-голова, жидяра порхатый, самоубивец, улизнул от судьбы, а мне жить и расхлебывать, хорошо устроился, ни наказания, ни возмездия, ни продолжения. Сейчас все ей объясню, она должна меня выслушать, не я убил ее отца и полюбовника, моего двойника. Мы с ним похожи, как боевик с омоновцем, которые погибли в последней разборке в БД.
Или это я его уложил из своего Макарова, а потом уж и омоновца, не отличимого от боевика?
Да, это я убил сначала Фазиля, потом Иосифа, а теперь вот Катю не удержать.
Я – шурави, русский, убийца, за мной кровавый след победы, суровый славянин я слез не проливал, кто победил не знаю, без разницы, я убью себя, если Катя останется в живых, а если умрет, останусь жить – себе в наказание. Вот, безответный, глухой, жестоковыйный, предлагаю себя взамен, в жизни и в смерти, не все ль Тебе равно?
Ему – все равно, а кому-то еще – не все равно.
Вот кто враг – время.
Мы уже подходили к дренажным люкам “Краснопресненской”, но нам повстречались какие-то люди и крикнули, что сами оттуда – люк у метро задраен, а который выходит в зоопарк засвечен, его сторожит ОМОН. У меня раненая, сказал я, но мне сказали, что подстрелят не глядя, риск велик. Тогда мы вернулись и пошли по другому коллектору, но на Смоленке все повторилось снова: проводник прополз по трубе и уже начал подниматься по лестнице, когда увидел у себя над головой, прямо на сетке – сапоги, камуфляж, автомат.
Мы скрывались от своих, нас никто не должен засечь, заметали следы, выметали сор, подчищали сцену, наводили марафет, уборщики истории, шито-крыто, концы в воду, пыль в глаза, но при чем здесь я с моей девочкой? Бес попутал, кремлевское удостоверение подвело, выбирал самый надежный и безопасный, а выбрал самый длинный и долгий путь. Что меня занесло сюда с моим подранком? Крот истории, я зарылся слишком глубоко, живым отсюда не выбраться, нас обложили со всех сторон. Вот мы и мечемся в этой подземной западне, как рыба в сети.
Тогда спелеологи решили пойти по бракованному селектору – по пояс в горячей воде, от которой подымался пропитанный хлором пар, дышать нечем, я накрыл Кате лицо своим шарфом, она совсем затихла, перестала стонать. Наконец, вдали забрезжил свет, у выхода началась толкучка, но нас пропустили, мы вылезли у Новодевичьего монастыря, тротуар весь перепахан, ремонт, кругом ни души. Мне повезло – я поймал какого-то левака, мы помчались к Склифу.
Время – проблуждали по городским коммуникациям несколько часов. Катя была без сознания. Я сделал все, что мог – раненых было навалом, но Катю сразу умчали в операционную. Позвонил Лене, через полчаса она была уже здесь. Рассказал все, как было – и про Иосифа, и про Катю. Меня всего трясло, но Лена сидела рядом каменная и молчала. Потом вышел врач и сказал, что Катя умерла.
Нет, он сказал иначе: спасти не удалось.
Если б на час раньше.
Хотя бы на час.
Всего на час.
Время.
Меа culpa.
А он снова улизнул за бугор, снял с себя вину, расплатился насильственной смертью, умереть легче всего, мертвые срама не имут, мертвые невинны, как ангелы, хотя какой он ангел!
А выстрел-то хоть успел услышать? Дошло хоть до него, кто его прикончил, пусть чужими руками? Или так и ушел в блаженном неведении, как и жил? Счастливец – всю жизнь пройти с закрытыми глазами и ни разу не споткнуться. Если б он знал то, что знаю я! Зачем так нелепо подставился и Катю за собой утянул – нарочно или по извечному своему легкомыслию? Полагался на меня? Не нянька за ним ходить, у меня без него в ту ночь дел по горло, вот и не уследил. Я приговорил его к смерти, но мы все приговорены к смерти и на этой роковой очереди с рождения. У меня было больше шансов схлопотать пулю, но судьба милостива. Хотя – как посмотреть. Убийство или самоубийство – в любом случае, бегство от судьбы, от платы, от возмездия, от продолжения. Снова отмотался. Ушел, не расплатившись. А расплачиваться – мне.
Как всегда.
Вусмерть устал от жизни.
Приговорен к жизни, чтоб завидовать покойнику.
Я приговорил его к смерти, а он меня к жизни, лишив единственной возможности разом со всем расквитаться. Обрек на тавтологию, опередив.
А все равно – запасной выход.
Слышат ли выстрелы расстреливаемые? Успел ли я тогда вырвать руку, хоть это было во сне, не все ль теперь равно? Нет, не успел, не удалось, я был казнен и услышал выстрел, а то, что жив до сих пор – по недоразумению, по недосмотру. Никто другой не властен меня убить – ни моджахеды, ни омоновцы, ни свои, ни чужие, только тот незнакомец во сне с моим – вспомнил! – моим лицом: кружил по косогору, пока не пристрелил у обрыва, я слышу выстрел, я лечу в пропасть, увлекая за собой Фазиля, Иосифа, Катю. Беречься меня как чумного.
Не убереглись.
И Лену чуть не сгубил, вовремя выскользнула из-под меня и спаслась – единственная.
А его нисколько не жаль – только завидую, и теперь уже до самого смертного часа, хуже нет зависти к мертвецу: эскапист! Ведь он даже не знает, что Катя умерла. Или знает? Тамошним своим знанием?
Кто больше страдает – умирающий или живой? Доказательств не требуется: дольше страдает живой – пока жив, до самой смерти. Poena damni, наказание потерей. Живой, а мертвее мертвого.
Или растянутое, бесконечное мгновение смерти никогда не кончается, и мертвец умирает вечно, и все никак не может умереть?
Как знать. Как узнать?
Труп не нашли, исчез бесследно, обезличенный беспашпортный неопознанный труп, никакого отношения к бывшему своему хозяину, моему другу-недругу, кого-то еще недосчитались в этот день, говорят, их где-то тайно кремировали, заметая следы. Не знаю – не видел. Не он один в этот день пропал без вести. Я сделал все, что мог, обошел все морги – напрасно. Паспорт передал по начальству, обещали искать. С чистой совестью отправил телеграмму Мусе Иосифовне в Нью-Йорк, что предпринимаются меры, чтоб найти. В ее возрасте единственное, что остается – надеяться.
Перед тем, как передать Лене, просмотрел каракули в его записной книжке – только начата, успел несколько страничек, английские слова наезжают на русские, невнятица, несколько раз мелькают имена “Катя”, “Лена” и один раз мое, что-то о смерти, дважды написано “лучше умереть” – вот он и умер, как хотел: отчужденное самоубийство. Своего добился!
А если правда, что я сообщил Мусе Иосифовне? Может, и в самом деле пропал без вести, исчез в бескрайних российских просторах, где-то носит его мятежную жидовскую душу?
Такие не умирают.
Вечный жид.
Кто мертв по-настоящему и навсегда – моя Катя. По закону подлости: я жив, она мертва. Даром что некронавтка. Вот я и говорю: умерла вместо меня. Вмешался Высший Распорядитель, вместо Этеокла и Полиника, погибли Ромео и Джульетта. Я так и не понял, пока не упал занавес, в какой занят пьесе. Спектакль окончен, зрители разошлись, а я все играю свою роль.
Запасной выход.
После похорон, пригласил Лену ко мне. Она отказалась: инстинкт самосохранения. Ехали по заснеженной Москве, мело и выло, оба молчали. О чем говорить? На полпути нас занесло, такой гололед, тормоза аж взвизгнули, еле вырулил. Уже подъезжая к ее дому, сказал, что знаю, Катя тебе звонила той ночью из Белого дома, ты беспокоилась, оказалось – не зря.
слова слова
слова
Лена повернулась ко мне, странно на меня смотрела.
– Кто тебе сказал?
– Катя.
– Мне никто не звонил, – сказала Лена. – Я и не думала, что вы все там. И ни о ком в ту ночь не беспокоилась. Приняла снотворное, спала как убитая, первая покойная ночь со смерти Вилли.
И тут Лена заплакала – впервые. Ни в больнице, ни на кладбище, а только сейчас, в машине.
А я так – ни разу.
Бесслезый, безлюбый, темперамент на нулевой отметке.
Достал из бардачка дружка – дал ей глотнуть и сам приложился.
Высадил Лену и поехал дальше.
Куда?
Только не домой, где повсюду живет Катя, в каждой вещи, в каждом углу, бродит неприкаянно, как выпь.
По Рублевскому шоссе, вниз, на юг, подальше от воющей пурги, заметает ветровое стекло, дворники отказывают, ничего не видно, тормоза взвизгивают на поворотах, а машина летит, как птица, с трудом удерживаю.
Печка, бля, не работает, хорошо дружок под рукой, вылакал до конца, полный газ, вперед, какой русский не любит быстрой езды, с ветерком. Точнее – буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет как дитя. Вот именно – как дитя. Последний раз плакал, когда мне было четыре, и до сих пор помню, из-за чего. А кто автор – забыл. Ну, и погодка. Вот и патрульные сорвались – это за мной. Что ж, поспорим. Кто кого.
Как до меня сразу не дошло? Не могло быть исключений, все телефоны отключены, кроме аварийной связи, один щит-распределитель, никаких случайностей! А Катя так подробно плела, Лена с ума сходит, хочет приехать, наверное, из-за Иосифа, нет, из-за всех нас, ведь у нее никого больше нет, и говорила, говорила, говорила – вот и поверил.
Зачем соврала?
Так и ушла из жизни, навесив на меня убийство Иосифа.
И Лена так думает.
И я.
А Иосиф?
Кто отправил его в лучший из миров?
Даже если успел услышать выстрел, кто всадил в него последнюю пулю – не знает.
Не может знать. И не может не знать.
Причем здесь я?
Это Азраил, ангел смерти, орудуя мечом, привел в исполнение мой приговор и выпустил душу из тела.
Сначала Осину, потом Катину, а теперь – мою.
Передо мной лежит перекинутый над бездной мост Сират – тонкий, как волос, и острый, как меч.
На нем стоят ангелы, останавливают вновь прибывших, задают все новые и новые вопросы, и того, кто не может ответить, сбрасывают в ад. Вот я иду, пошатываясь и оступаясь, по этому мосту и разговариваю с ангелами.
Бог судит не по делам, а по намерениям.
А каковы мои?
По какому праву ангелы задают вопросы, на которые у них самих нет ответа?
Что мне сказать им на мосту Сират, будь проклят!
Меа сulpa.
Сирену включили, только зря стараются, я лечу как птица, никому за мной не угнаться.
вот и оторвался от земли умрет сегодня заметенная снегом
лечу
израсходовался
пуст
легко
ангел зла
запасной выход
Катя, Катенька, девочка, родная, мертвенькая, зачем соврала?
Нью-Йорк
1993