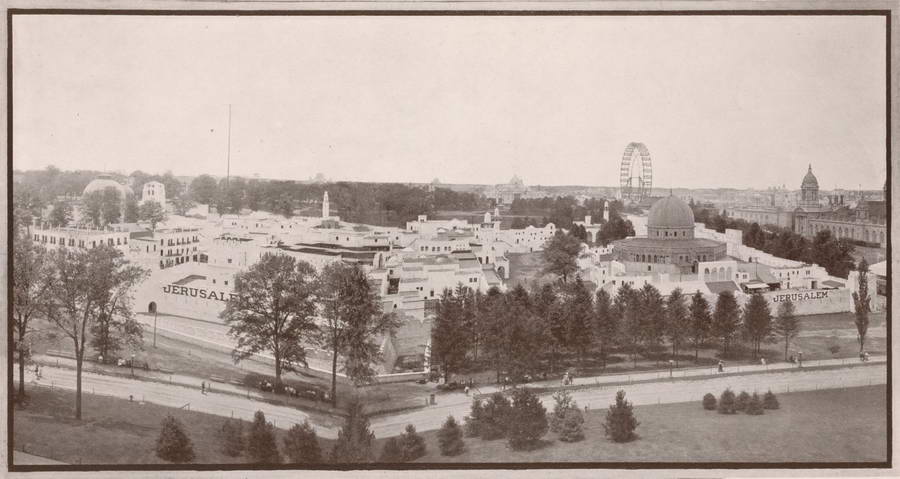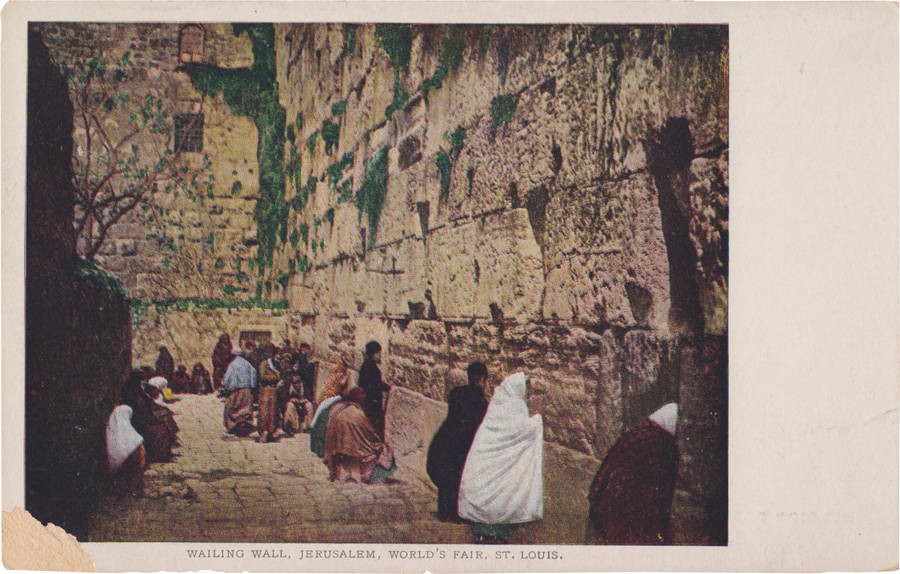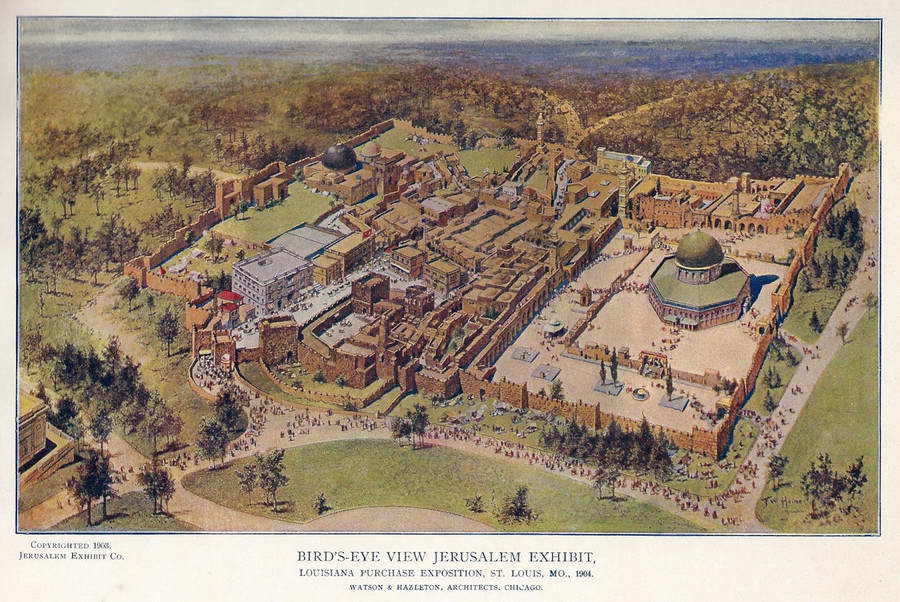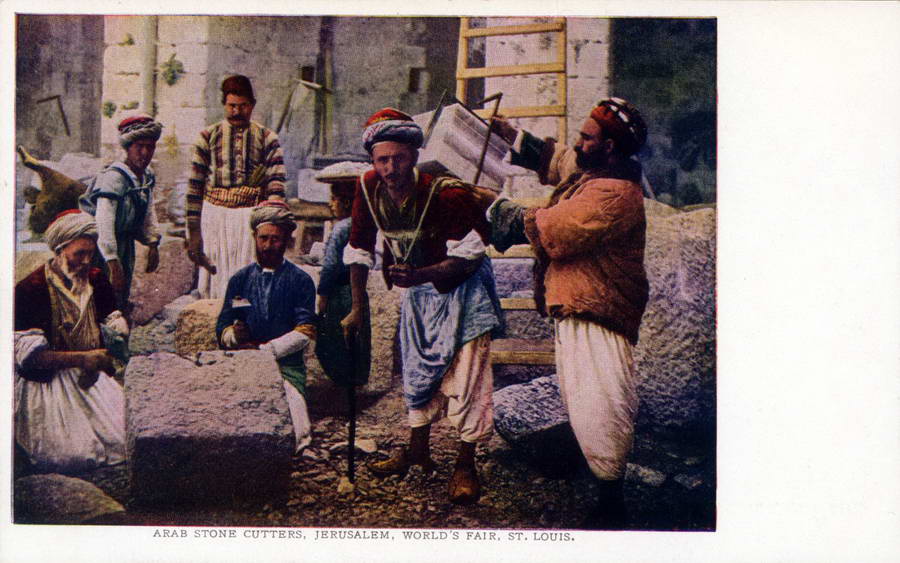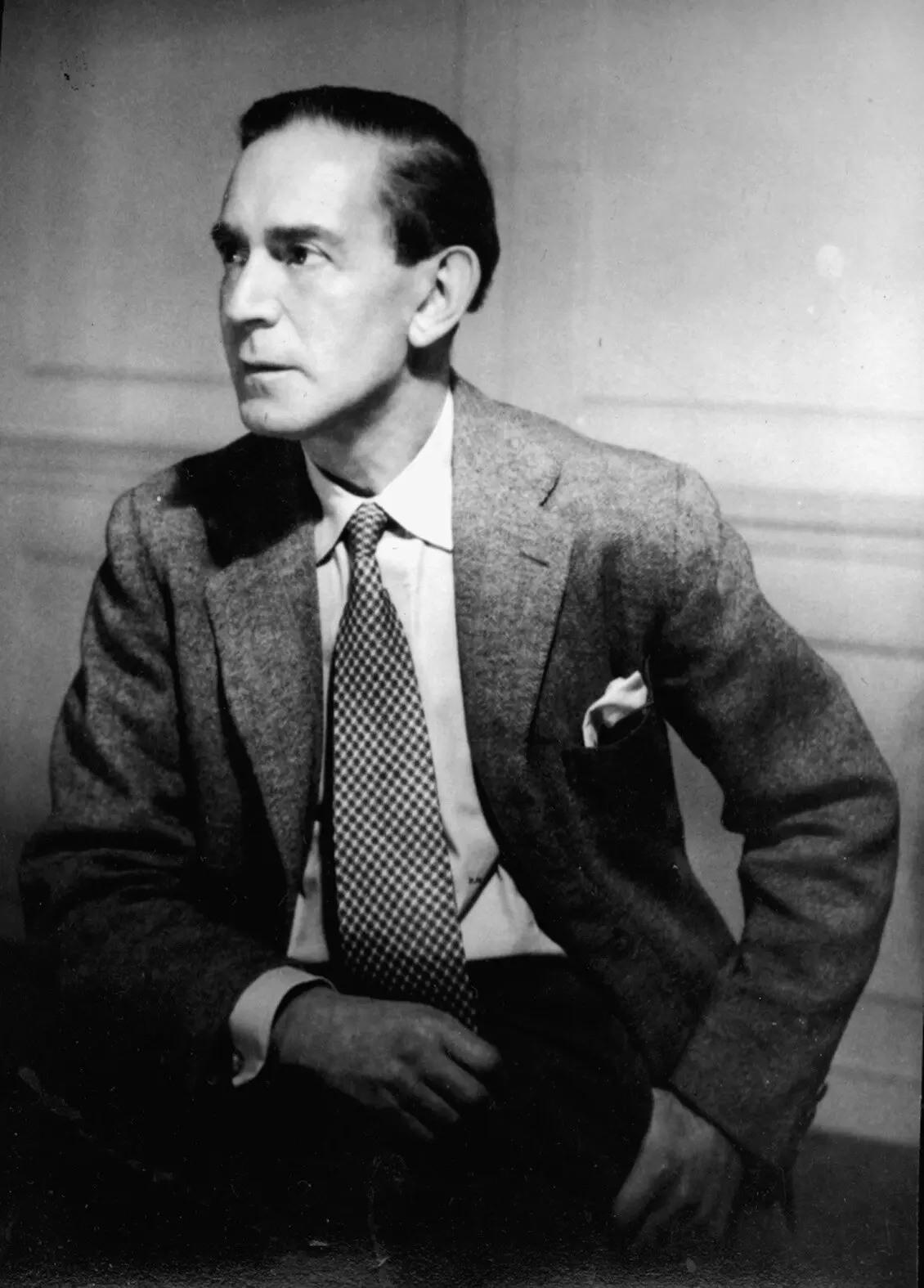Сны
Пещера и Пентхаус
И если кто‑нибудь спросит: «Кто ты?» —
ответь: «Кто, я?
я — никто», как Улисс некогда Полифему.
И. Бродский. Новая жизнь. 1988
В пещеру Полифема Одиссей пришел со своими друзьями, когда хозяина не было дома. Вернувшись, циклоп схватил двух греков, ударил их оземь и состряпал себе страшную пищу. Запив молоком ужин, заснул между овец и баранов. Одиссей хотел поразить его в печень острым мечом, но понял, что не сможет выйти наружу. Вход был завален обломком скалы, и только циклоп мог сдвинуть камень с места. Назавтра хитроумный герой предложил циклопу чашу с вином, какого тот никогда не пил. Когда Полифем уснул, греки воткнули ему бревно в единственный глаз. Утром слепой циклоп отвалил камень от устья пещеры, чтобы выпустить овец и баранов. Уцепившись за шерсть животных, греки вышли наружу. На крик Полифема сбежались другие циклопы. «Кто обидел тебя?» — спросили они. «Никто», — ответил он. Ведь прежде в пещере Одиссей сказал ему: «Я называюсь Никто» (см.: «Одиссея», IX, 289–293, 311, 344). По‑гречески Никто — Утис, на латыни — Немо. В романе Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой» это имя носит капитан подводной лодки, топившей британские корабли. Режиссер Василис Кацупис назвал так героя фильма «Внутри» (Inside, 2023).

Похититель картин Немо проникает в пентхаус, когда Хозяина нет дома, а выйти не может. Он не справился с электронным замком, его не выпустила железная дверь, за ним замкнулись пуленепробиваемые стеклянные окна. Он остался наедине с неработающим сортиром, холодильником, в котором нет ничего, кроме банки с икрой, обесточенной кухней и отключенным водопроводом. Немо ел сырую лапшу, ловил в аквариуме рыбок, пил воду из фонтанчиков для орошения зимнего сада. От старости и от голода его грязная кожа провисла. Ночью ему приснился вернисаж с фуршетом. Хозяин радушно встретил его и удалился к другим гостям, чтобы представить им работу дуэта Масбеди: «Кукла, марионетка, старый символ неотвратимости жребия. Ведь мы не что иное как куклы, и боги или судьба дергают нас за ниточки, диктуя нам наши поступки. Есть ли вообще свобода воли, или мы всего лишь куклы в спектакле, и невидимые руки двигают нами?»
Сценарист, очевидно, читал диалог Платона «Законы», где о куклах рассуждает Афинянин, то есть сам Платон. Голос Хозяина плавно затихает. Немо удаляется от толпы гостей, поднимается по ступеням лестницы, подсвеченным изнутри, и переходит в реальность из сна.
Что за лестницу он видит во сне? Уж не ту ли, о которой читаем в Торе: «И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Б‑жии восходят и нисходят по ней». Когда Яаков пробудился от сна, он сказал: «Истинно Г‑сподь присутствует на месте сем; а я не знал!» И еще сказал: «Как страшно сие место! это не иное что, как дом Б‑жий, это врата небесные» (Быт., 28:12, 16–17).

Пентхаус — страшное место. Его сотворил Хозяин, а Немо разрушил. Он разломал столы и стулья, связав их в пирамиду, чтобы выбраться через световой люк, но с грохотом полетел вниз. И снова карабкался вверх, напевая старинный госпел: «Я иду на небо по склону холма». Его пирамида похожа на инсталляцию Ильи и Эмилии Кабаковых, которая называется «Как встретить ангела». Это несколько лестниц, поставленных друг на друга, и на самой верхушке — маленький человечек, распахнувший объятья.

Нам неизвестен конец истории: сумел ли Немо открыть люк, выбраться на волю? На стене осталось его послание Хозяину: «Для тебя это был дом, для меня — клетка. Прости, что я разрушил его, но, может быть, он нуждался в этом. Ведь без разрушения нет и творения». Три предмета искусства Немо оставил нетронутыми в разоренной квартире. Когда он был ребенком, учитель спросил его: «Что бы ты спас от огня во время пожара?» — «Моего кота Граучо, альбом группы AC/DC и альбом для эскизов». Кот умер, альбом группы AC/DC присвоил приятель, но альбом для эскизов Немо сохранил. «Кошки умирают, музыка затихает, но искусство живет в веках».
Студия и скотобойня
Какие сны в том смертном сне приснятся,
Когда покров земного чувства снят?
У. Шекспир. Гамлет (перевод Б. Пастернака)
В марте 1954 года британский сказочник и автор коротких рассказов Роальд Даль купил усадьбу в графстве Бакингемшир. Он дал ей название «Цыганская кибитка» и прожил в ней до самой смерти, настигшей его в ноябре 1990 года.
Даль украсил дом по своему вкусу. На стенах гостиной висели картины русских художников — Поповой, Малевича и Гончаровой. Он любил искусство. В 1947 году Даль покупал в Париже картины для коллекции своего друга, газетного магната Чарльза Мерша. Товар шел задешево: французы выбрасывали на рынок имущество убитых евреев. Возможно, опыт этой торговли лег в основу рассказа «Кожа» (1952).
Герой рассказа — татуировщик Дриоли. Еще до Первой мировой войны он дружил с живописцем, которого звали Хаим Сутин. Тот родился в деревне Смиловичи под Минском, но, на взгляд Дриоли, не выглядел как «западный русский». Скорее он был похож на татарина или калмыка. Дриоли звал его маленьким калмыком. В студии «калмыка» не было ничего, кроме мольберта, засаленной кушетки и стула. Перед мольбертом стояла Джози, жена Дриоли, и позировала художнику. Под воздействием винных паров в голове Дриоли родилась идея, он захотел портрет Джози, который будет с ним везде и всегда, татуированный на коже его спины. После долгих уговоров художник сдался, портрет получился на славу.
Вскоре чета Дриоли перебралась в Гавр. В портовом городе была работа: за наколки моряки щедро платили. Но пришла Вторая мировая война, Джози убили, спрос на наколки упал. Когда немцы ушли, больной и нищий Дриоли вернулся в Париж. И вот он стоял перед витриной художественного салона и разглядывал пейзаж, снабженный табличкой: «Хаим Сутин (1884–1943)».
За миллионы франков в салоне теперь шли картины маленького калмыка. Дриоли был здесь чужой. Его уже выталкивали за дверь, когда он сорвал с себя куртку и рубаху. Публика ахнула, увидев на спине оборванца голову женщины и подпись Сутина. Кожа обвисла, но картина не пострадала! Началась торговля. Владелец салона назвал цену: 2 тыс. франков после смерти владельца, если со спины нельзя срезать кожу и заменить ее покровом с других частей тела. Какой‑то высокий господин, представившийся владельцем отеля «Бристоль» в Каннах, пообещал Дриоли лучшее бордо и жареную утку на ужин. Надо только демонстрировать картину на пляже в рекламных целях. Бедняга согласился. Пару недель спустя картина появилась в одном из салонов Буэнос‑Айреса, покрытая несколькими слоями лака. И, поскольку в Каннах нет отеля «Бристоль», остается надеяться, заключает автор, что там, где Дриоли находится сейчас, ему делают маникюр и приносят завтрак в постель.
В своей записной книжке Даль как‑то отметил: «Я не лгу. Я только делаю правду чуть‑чуть более интересной».
Действительно, в этом рассказе нет лжи, татуированная кожа — отличный материал. Ильза Кох, получившая прозвище фрау Абажур, сделала скатерть для кухни из кожи, срезанной со спины певицы парижского кабаре. Татуировка моряков особенно ценилась. Даль был, вероятно, наслышан об этом. За черный юмор его прозвали мастером мрака. Он ценил художников, с холстов которых сочится мрак. Маленький калмык — первый среди них. Рассказывают, Сутин ходил на парижскую бойню за натурой для натюрмортов. Вместо свежих фруктов, цветов и бокалов на этих холстах — подгнившая плоть: кровавая бычья туша, ощипанные цыплята, заяц с ободранной шкурой, сложивший лапки. Между Первой и Второй мировой войной, между погромами и Холокостом художник рисовал время, метафора которого — скотобойня.
В романе Башевиса‑Зингера «Тени над Гудзоном» женщина разглядывает бывшего мужа, который вновь оказался в ее постели:
Его лицо казалось залитым кровью. Он как‑то странно хмурил брови, словно что‑то напряженно высматривая во сне. Через его лоб протянулась глубокая изогнутая морщина. В уголках рта было множество мелких морщинок. За ночь у него на подбородке выросла щетина с пятнами седины. Анна вспомнила, что читала в еврейской газете о большой группе евреев, которых румынские фашисты загнали на скотобойню и там зарезали. Да, это происходило на этом свете, и, что бы уже ни произошло после этого, такое обязательно должно остаться в памяти. Никакая сила не сможет смыть этот позор, даже сам Б‑г не сможет .

Конечно, не только евреи шли на бойню. В ночь на 13 февраля 1945 года, когда американцы бомбили Дрезден, Курт Воннегут, американец с немецкими корнями, взятый немцами в плен в Арденнах, вместе с охранниками прятался в подвале скотобойни. Он выжил и написал роман «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей». Воннегут сравнил себя с женой Лота, которая оглянулась на горящие города — Содом и Гоморру — и превратилась в соляной столб. В Дрездене погибли около 30 тыс. немцев. Среди них, как среди жителей Содома и Гоморры, было много скверных людей. Но Курт Воннегут не мог не остановиться, не оглянуться, не стать соляным столбом.
Оглядываясь на прошлое в своих мемуарах, Роальд Даль вспоминал, как дрался с нацистами в небе над Грецией и Палестиной, как встретил близ Хайфы еврейских сирот, беженцев из Германии. Даль не любил евреев, хотя не гнушался пользоваться их услугами, а с некоторыми даже дружил. Правду о бойне он сделал «чуть более интересной», взяв за образец философскую повесть Вольтера «Кандид, или Оптимизм». В этой повести наивный юноша, наученный своим наставником, что все к лучшему в этом лучшем из миров, вдруг сталкивается с печальной реальностью. Так столкнулся с печальной реальностью и герой рассказа Даля «Свинья» (1959).
Начало рассказа подобно зачину сказки: «Однажды в городе Нью‑Йорке был рожден для этого мира прекрасный младенец. Счастливые родители дали имя ему — Лексингтон».
Когда младенцу исполнилось 12 дней, папу и маму застрелила полиция: те лезли в окно своего дома, потерявши ключ. Лексингтона забрала тетя. На ферме она поила его молоком и кормила свежими овощами. Ребенок не знал вкуса мяса, но научился чудесно готовить и мечтал написать кулинарную книгу. И вот Лексингтону исполнилось 17 лет. Тетя умерла в страшных корчах, оставив юноше богатое наследство. Почти все деньги присвоил себе адвокат, маленький человечек с еврейской фамилией и огромным пурпурным носом. Наследник, получив 15 тыс. из полумиллиона, направился в ресторан. В меню не было ничего, кроме свинины с капустой. Тетя учила его, что мясо отвратительно на вкус, но это просилось в поваренную книгу! Главное, как сказал ему официант, правильно забить свинью.

Пытливый юноша отправился на скотобойню. Здесь его встретил экскурсовод и проводил в длинный барак без крыши. Вдоль стены барака двигался трос с крюками, на которых висели цепи. Пока Лексингтон наблюдал за процессом, человек в резиновых сапогах подобрался к нему сзади и привязал за лодыжку к цепи, как привязывал свиней за заднюю ногу. Через минуту юноша оказался в главном здании бойни, где ему ножом перерезали яремную вену. «Внезапно наш герой почувствовал сонливость, но не раньше, чем его прекрасное сильное сердце вытолкнуло из тела последнюю каплю крови, он перешел в иной мир из этого мира — лучшего из всех миров».
Мы движемся от рождения к смерти, погруженные в мутный поток истории, рискуя оказаться на бойне. Мы никто и звать нас Никто. Но во сне или наяву мы пытаемся выбраться, мы строим инсталляцию, встречаем ангела, мы идем на небо по склону холма.