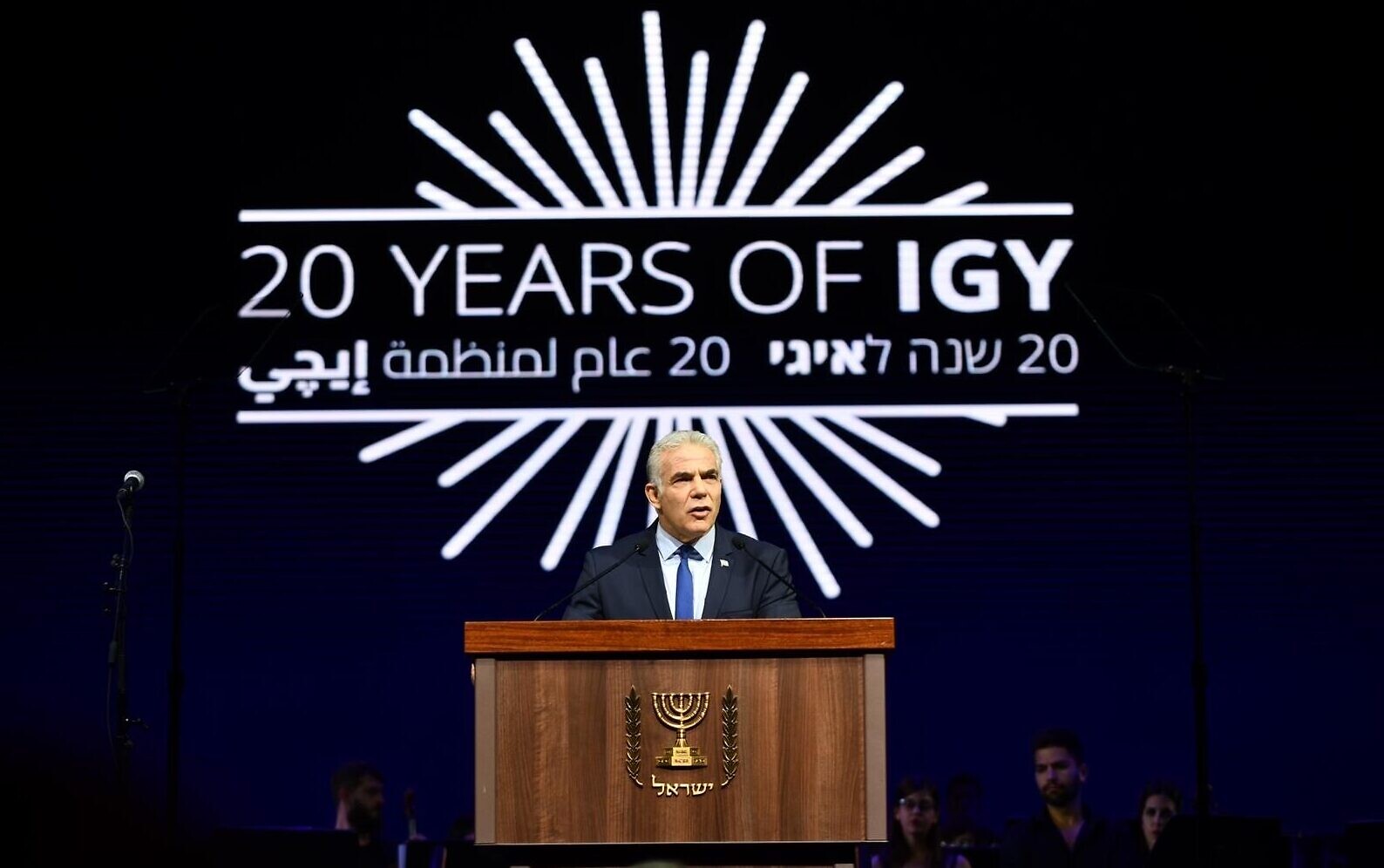Евгений Халдей и еврейский вопрос
Среди работ знаменитого советского фотографа Евгения Халдея — автора исторического снимка «Знамя победы над Рейхстагом» — есть, как ни странно, фотографии, до недавнего времени не опубликованные на родине. И факты его биографии до сих пор многим неизвестны, хотя более известного в мире советского фотографа трудно найти.
Видел синагогу с трупами
Несколько лет назад на аукционе в США ушла за 200 тысяч долларов «лейка», принадлежавшая в годы войны Евгению Халдею — та самая, которой было снято 2 мая 1945-го «Знамя победы…». Камеру выманили обманом — некто, сумевший втереться в доверие к старому человеку, напел ему, будто Музей фотографии в Лос-Анджелесе мечтает выставить аппарат. Скандала тогда не случилось — продали и продали, не впервой.
Мне эту историю рассказала дочь фотографа Анна Халдей — мы обсуждали тогда выставку, открывшуюся в 2017 году в Московском Мультимедиа Арт Музее (Доме фотографии) к столетию легендарного фотокора. И там же я увидела под стеклом страницу журнала Time — снимок, на котором Халдей запечатлел в феврале 1945 году еврейскую пару в Будапеште: выжившие он и она, с не споротыми еще с пальто желтыми звездами, стоят в начале полуразрушенной улицы, которая кажется бесконечным проспектом, а на деле длиной от силы метров 100.«Снимок этот 50 лет никуда не шел, ни на одну выставку, — вспоминал Халдей, — я пытался давать. И вот 50 лет Победы, в США к юбилею напечатали, а у нас до сих пор молчание. Не хотят». Это он рассказывал в фильме, снятом в 1996 году бельгийским документалистом Марком Анри Вайнбергом, большим поклонником его творчества. Названная в духе времени «Фотограф Сталина», эта картина единственная успела запечатлеть героя живым. Он там, среди прочего, рассказывает историю снимка с еврейской парой. «Вошли в Будапешт. Было страшно, я видел синагогу с трупами евреев, их никто не хоронил. А тут замечаю — идут муж и жена с желтыми звездами. И так меня поразило: город освободили, а они все носят эти звезды. Я был в кожаном пальто, они испугались, решили, что я эсесовец». Халдей обратился к ним на идише (он сказал «на немецко-еврейском»): «Подождите!». Подошел и сорвал звезду с мужчины, потом с женщины. Они снова испугались, а Халдей им: «Alles ist gut». Догадался, что надо сказать какой-нибудь еврейский пароль, произнес: «Шолом Алейхем». Они расплакались, упали фотографу на грудь.
Это одна из баек Халдея, которых великое множество, они продолжают и дополняют друг друга, позволяя представить себе его долгую жизнь, полную побед и разочарований.
«В ночную разведку идут, мурманское направление. Бойцы в плащ-палатках отражаются в воде. Семеро ушли в ночь, а утром вернулось четверо — трое погибли».
«Меня подвешивали в бомбардировщиках в бомболюк вместо бомбы, привязывали, и самолет поднимался в воздух».
«Приходит девочка из журнала Time, приносит конверт с журналом и деньги. 200 долларов за эту маленькую х…у», — рассказывает наш герой, и тут же спохватывается: «… Фотографию. На французский язык это, наверное, не переводимо. 200 долларов — все идет на колбасу». Пенсия его составляла в тот момент 30 долларов.
Самая трепетная съемка
Он замечает между делом: «Все руководители прошли через мой объектив. Самая трепетная была, конечно, съемка Сталина». Трепетная, разумеется, для фотографа, испытавшего именно что страх и трепет. Речь идет о кадрах с Потсдамской конференции, где Сталин с папиросой, Рузвельт в бабочке и Черчилль с трубкой. Перечисляя первых лиц, Евгений Ананьевич каждого называет по фамилии, и только Горбачева — по имени-отчеству. Упоминает Ельцина — «а кто будет следующий, уже не знаю».
Через год после съемок, в 1997-м, Халдей умрет, совсем не старым — 80 лет. А за пару лет до этого в Перпиньяне, на ежегодном Международном фестивале фотожурналистики, состоится посвященная фотографу церемония. Президент Франции специальным указом присвоит Халдею звание Рыцаря ордена искусств и литературы. Устроят его выставку — как автора «Знамени победы…», пригласив для симметричности и автора американского «Знамени…» Джо Розенталя. А помимо этого, там откроют выставку великого Роберта Капы — фото из Вьетнама, где Капа погиб. Евгений Халдей с ним, так случилось, дружил, и сын Капы, прилетевший на вернисаж, будет вспоминать, как отец рассказывал ему о Халдее. Два еврея-фотографа (настоящее имя Капы — Эндре Эрнё Фридман) быстро нашли общий язык, познакомившись во время войны.
Разрушенный Севастополь и сожженный Мурманск
Это было в 1945 году в Карлсхорсте, в ставке Жукова, при подписании капитуляции. Через год они снова встретились в Нюрнберге, на процессе над нацистскими преступниками, и Капа подарил Халдею камеру «Speed Graphic», купленную специально для него.
В 1947-м Роберт Капа сам приедет в СССР. Ему не позволят вывезти из Союза непроявленные пленки, и единственным, кому Капа доверит проявку, окажется Халдей. А Нюрнберг останется моментом главного триумфа Халдея, даже большего, чем тот снимок со знаменем в Берлине. Три его фотографии фигурировали на процессе в качестве доказательств преступлений Гитлеровской Германии во Второй мировой войне: снятый с воздуха разрушенный Севастополь, двор ростовской тюрьмы с расстрелянными людьми и сожженный Мурманск — за день на город было сброшено 360 тысяч зажигательных бомб, деревянный Мурманск сгорел, остались одни печные трубы, торчавшие посреди разрухи.
В Нюрнберге Халдей сделал прославивший его снимок разрушенного города — в сумерках, наступления которых он несколько часов ждал, добиваясь правильного освещения и интонации, передающей ощущение трагедии. Много лет спустя, в Вене, на открытии персональной выставки, у него спросят, показывая на этот снимок, какую академию он заканчивал. А все образование было — четыре класса хедера, в котором преподавал дед со стороны отца.
Но действительно, прославил фотографа в Нюрберге не столько вид руин, сколько снимок Германа Геринга, остававшегося после смерти Гитлера и Геббельса главным преступником. Все фотокоры пытались его снять, а он не давался. Сложность состояла еще в том, что по залу, где шли заседания международного трибунала, нельзя было перемещаться — у фотографов были свои места, но оттуда невозможно было поймать нужный ракурс. И Халдей нашел выход — снимать с места, где сидел секретарь советского судьи. Тот должен был задержаться на обеде — Халдей пообещал ему за это две бутылки виски. За те несколько минут, что секретарь отсутствовал, щелкнул Геринга — и весь мир опубликовал этот снимок, потому что не было других.
Всю пленку истребил на этот снимок
Трудно сказать, о чем думал, глядя на Геринга, Евгений Ананьевич Халдей, 1917 года рождения, еврей, появившийся на свет в Юзовке (теперь Донецк) и потерявший на той войне отца и трех сводных сестер — немцы сбросили их в шахту вместе с другими евреями.
Еще раньше он потерял в погроме, устроенном накануне праздника Песах, деда и мать — пуля пробила ее тело насквозь, застряв под ребром сидевшего на коленях годовалого сына. Вместе с ними погибла мамина подруга и 17-летняя няня младенца, который был тогда не Евгением и даже не Ефимом, как указывают многие источники, а Хемой. Евгением он стал, попав в Фотохронику ТАСС.
Первую фотокамеру сделал сам, в 12 лет, работая мальчиком на посылках в фотоателье братьев Клейманов. Взял две картонные коробочки, вложил друг в друга, пристроил линзы от бабушкиных очков, вставил стеклянную пластину, положил магний в коробку изпод ваксы, и первым же кадром снял собор в Юзовке — его потом взорвали, и оказалось, что других фотографий здания нет.
Халдей продолжал снимать, работая на местном заводе — чистил паровозные топки в депо. А дома играл на скрипке. «Бабушка давала мне задание играть «Плач Израиля», — рассказывает он в фильме. — Я играл, она давала мне 5 копеек на мороженое». Он копил копейки и лет в 14 подписался на настоящий фотоаппарат. Ездил с агитбригадой, снимал, печатался в местной прессе, отправлял снимки в «Союзфото». В 1936-м, когда позвали в Москву, поселился на улице Станкевича, у Израиля Соломоновича Кишицера, мужского портного, которого знал с рождения — тот был тоже из Юзовки и помнил погром, в котором погибла мать будущего фотографа. И это был тот самый портной, который в 1945 году, накануне командировки Халдея в Берлин, за ночь сшил ему знамена из трех красных скатертей, добытых в ТАССе («пошел на склад, там был друг — завхоз Гриша Любинский, маленький такой еврей, спрашиваю: Гриша, где у тебя скатерти?»). Знамя номер три водрузили на Рейхстаг.
Кадр, понятно, постановочный, но вошедший в историю. Лучше всего она звучит в исполнении автора: «Все шли к Рейхстагу и Бранденбургским воротам, и я шел как все. 2 мая, 7 утра. Дым, копоть, стрельба, ворвался в Рейхстаг, вытащил флаг, и солдаты подходят. Я им: «Пошли на крышу». Их трое, я четвертый. Забрались на крышу, перед нами купол, а снизу пожар — нельзя было близко подойти. Нашли палку, нанизали флаг, и нужно было для композиции, чтобы открывался вид на Берлин, а не получалось. Договорились с одним солдатом, что будут его держать. И вот он полез, его держат за ноги, и тут я увидел композицию. Всю пленку истребил на этот снимок».
Потом, уже в Москве, начальство обнаружило у солдата часы на обеих руках — «Что, мародер?!». Пришлось фотографу выцарапывать вторые часы.
Руки не давали мне, называли космополитом
Происхождение Халдея в то время никого не смущало — мытарства начались в 1948-м. «В стране началось брожение, — вспоминает Халдей в фильме, — еврейский вопрос возник, стали люди менять фамилии, начали увольнять всех, особенно занятых на идеологическом фронте. Из Кинохроники ТАСС уволили всех кинооператоров-участников войны, тех, кто был евреем. Выгоняли пачками».
Халдей снимал спектакли ГОСЕТа и всех артистов, включая Михоэлса. А потом, в ожидании обыска, жег негативы и бил стеклянные пластины с довоенной съемкой. Его, конечно, уволили — четырех русских и его. Их через месяц взяли назад, а его нет. В 1990-х, когда рассекретили часть архивов, обнаружился документ, согласно которому Халдей не мог быть использован в работе органов Госпечати и должен был быть уволен по рекомендации КГБ.
«Руки не давали мне, называли космополитом. И жидом называли», — говорил Халдей, замечая, что помнит, кто это был. Но имен не называл. — Отмахивались от меня как от чумы. Мне удалось устроиться в журнал «Клуб», профсоюзный. Танцы, шманцы, библиотеки — это был мой репертуар».
В последний раз его уволили уже из «Правды», в 1970-х — «пришел новый начальник отдела кадров, открытый антисемит, говорит: не успокоюсь, пока хоть один еврей работает в газете». И как тут не вспомнить другие времена, но те же нравы. 1938 год, Вена, Аншлюс. Прославленный дирижер Карл Бём, занявший пост худрука Венской оперы после вынужденно уехавшего в Нью-Йорк великого Бруно Вальтера, жалуется в письме, что не может войти в здание оперы — пока там остается хоть один еврей.
Ирина МАК