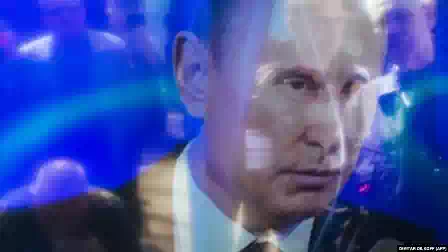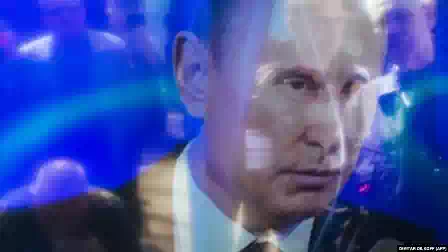
"Владимир Путин – популярный человек. А еще он диктатор". Так начинается книга "Кто здесь власть?" Сэма Грина и Грэма Робертсона, британского и американского политологов, которые изучали социологические основания популярности российского президента, столь длительной и столь прочной.
Грин и Робертсон подчеркивают, что Путин управляет "гигантской машиной принуждения", чтобы "запугивать потенциальных соперников…, отправлять в тюрьму оппонентов и высылать их из страны". "Некоторые из тех, кто особенно яростно критиковал Путина, когда мы начинали работу над настоящим исследованием, не дожили до его публикации", – замечают авторы.
Однако при этом они подчеркивают, что власть Путина не основана лишь на подавлении и насилии, без которых он был бы изгнан народом при первой возможности. Путина поддерживают десятки миллионов людей, и в книге описывается его путь от "неприметного подполковника КГБ" к "стержню нации и синониму самого Российского государства".
В книге говорится, что "в глазах общества никто не имеет достаточного авторитета, чтобы стать реальным соперником" Путину, но это "чувство неизбежности Путина" является и источником огромной силы, и, потенциально, источником слабости. Авторы вспоминают о крахе коммунизма в Восточной Европе и СССР. "Авторитарный режим в огромной степени зависит от того, что люди ожидают от окружающих. Когда ожидания людей о наиболее вероятном поведении окружающих меняются, это порой в одночасье приводит к падению целых режимов".
Авторы говорят о затруднительности давать прогнозы: "Поддержка может раствориться в одночасье", и описывают способность Путина адаптироваться под обстоятельства и находить новые группы поддержки.
Однако в нынешней волне ужесточения режима и репрессий – преследовании оппозиции, уничтожении независимых СМИ, искоренении инакомыслия среди ученых – один из авторов, Грэм Робертсон, видит намеки на то, что Путин мог исчерпать способности к адаптации. В интервью Радио Свобода он, в частности, комментировал два представления об источнике популярности Путина: первое, что внезапный и колоссальный рост цен на нефть, пришедшийся на начало его правления, привел к росту благосостояния населения, особенно в сравнении с 90-ми годами, и благодарные люди подарили ему свою поддержку. Второе, что Путин апеллирует к каким-то более глубинным чувствам россиян, привыкших жить в империи и скучающих по ощущению собственной могущественности:
– Идея, что популярность Путина базируется на экономической трансформации 2000-х в сравнении с 1990-ми, выглядит вполне убедительным объяснением путинской популярности в 2000-е. Любой лидер, при котором экономика растет на 6–7 процентов в год, и доходы людей более чем удваиваются, будет популярным. Но это было правдой лишь до 2008–2009 годов, когда произошел глобальный финансовый кризис, и Россия пострадала, и мы говорим не о нескольких годах, а о более чем десятилетии экономической стагнации, нескольких годах рецессии, – но путинская популярность, по имеющимся социологическим опросам, оставалась выше 60 процентов. Тут экономика не может быть объяснением, если только не считать, что россияне испытывают вечную благодарность за 2000-е, – и это не похоже на наши представления о том, как люди думают об экономике. Должно быть другое объяснение. Один из вариантов – эта идея, что Путин обращается к глубинному стремлению быть великой державой. В этом наверняка что-то есть. И в нашем исследовании в книге говорится о том, что Путин в 2000-х вовсе не был националистом, но стал гораздо больше обращаться к националистической идее после протестов на Болотной, после перевыборов в 2012 году, и очевидно, во время украинского кризиса. Но даже это объяснение, связанное со способностью Путина "вновь сделать Россию великой", вернуть ей центральное место на международной арене, не охватывает всей истории. Важно думать не столько об отношениях Путина с отдельными гражданами и не об их оценке того, что он сделал для экономики или на международной арене, важно подумать о том, как россияне взаимодействуют между собой, и как мнение сограждан меняет их мнение. И мы показываем в книге, что значительная часть путинской популярности базируется на том, что его воспринимают как "фокальную точку" всей страны, и в этом смысле он выше политики, экономики, – упреки достаются правительству, а не Путину, хотя в конечном счете именно он должен был бы нести ответственность. Его успехи в международной политике считается здоровым и патриотичным поддерживать, а критиковать его считается нездоровым и непатриотичным, и это дополнительное давление в обществе в поддержку президента важно для понимания, почему популярность Путина столь невероятно крепка, несмотря на экономический кризис, да и на плохие новости во внешней политике. Аннексия Крыма и затем "приключения" на востоке Украины едва ли прошли удачно: война продолжается, способность России нормализовать жизнь на оккупированных территориях была очень ограниченной. Так что должно быть что-то еще [в смысле поддержки Путина], это не суждение, вынесенное на основе результатов [его деятельности], это результат более широкого общественного давления, общественных сил, и это наша аргументация в книге.
– Существует представление, что Путин пришел к власти и затем злоупотребил ею, использовал пропаганду, чтобы одурачить людей и получить их поддержку. Но если признать, что Путин выражает нечто очень важное для значительной части российского народа, не окажется, что Путин в каком-то смысле является эманацией народа, воплощением его желаний. Правда, эта идея в опасной близости от концепции, что каждый народ имеет того лидера, которого заслужил, а вы пишете, что не согласны с этой концепцией.
– Очевидно, что в России есть большая группа людей, поддерживающих идею о величии российского государства, что-то вроде национализма – не этнического национализма, но государственнической концепции национализма, который считает, что Россия – великая держава, ее должны уважать, она должна быть сильной, – и это важнее, чем индивидуальные свободы, свобода прессы и так далее. Это существенная часть электората, и даже если бы выборы были свободными и честными, всегда будет кто-то выдвигающийся на этой платформе – вспомните Жириновского в 90-х. В российской политике всегда будет это националистско-государственническое течение. Путин в какой-то степени является отражением этой тенденции в политике, но, с другой стороны, есть много других потенциальных направлений в российской политике: демократическая традиция, социалистическая, левая традиция, и даже есть небольшая либеральная, рыночная традиция. Люди выбирают из данных им вариантов, – но когда выборы контролируются, и что еще важнее, контролируется, кто допущен к выборам, то и вариантов нет, ими сильно манипулируют, и это даже не принимая во внимание пропаганду на гостелевидении. Так что Путин является эманацией какой-то части российского общества, но я не думаю, что у нас есть ясные представления, как велика эта часть общества или какой она была бы в условиях свободных выборов, свободного распространения информации. И традиция, которую представляет Путин, лишь одна из многих и не будет всегда успешной в более открытой соревновательной среде.
– В книге вы упоминаете о том, что рост благосостояния делает население более склонным к демократизации, и это, наверное, можно отнести к участникам "болотных" протестов, многие из которых были средним классом, пожавшим плоды 2000-х. Интересно, что с того времени российская экономика стагнирует, и власть это, кажется, устраивает, выглядит так, она и не стремится к быстрому экономическому росту, предпочитая медленное обеднение – не знаю, можно ли это считать осознанной реакцией на "болотные протесты". И тут есть противоречие с представлением, что население благодарно лидеру, при котором оно богатеет, а беднеющее население легче готово протестовать.
– Один из законов общественных наук, который в долгосрочной перспективе выглядит правильным, – что более богатые общества обычно более демократичны, и у людей по мере роста благосостояния начинают развиваться, используя профессиональный термин, "постматериальные ценности": они меньше беспокоятся о том, будет ли у них еда на столе и как обеспечить жизнь в тепле и безопасности, и начинают больше беспокоиться о демократии, свободе слова, окружающей среде и множестве других вопросов. Политологи всегда ищут тесные связи между уровнем доходов людей и их требованием свобод. Но тот, кто наблюдал за происходящем в России и рассчитывал, что политика будет следовать за экономикой, мог испытать разочарование: в 2000-х было много экономического роста и было сужение политического пространства, а не расширение, не укрепление демократии, а ее эрозия. Многим сложно осознать, что взаимосвязь между экономикой и демократией существует на очень больших временных отрезках, а на коротких не очень заметна. Есть различные политические стратегии, которые политики могут использовать, чтобы, по сути, отвлечь общество. То что Путин делал с 2011 года, а на самом деле начал делать с 2009–2010 годов, было попыткой отвлечь внимание общества от экономики на национализм, положение на международной арене, роль России как защитницы традиционных консервативных ценностей. И он добился этого, хотя экономические показатели были плохими.
Если вы спросите моего мнения, может ли это быть преднамеренной стратегией держать население бедным и благодарным, то я в это не верю. Думаю, если бы они могли выбирать скорость экономического роста, то предпочли бы очень быстрый рост, чтобы люди становились богаче, это сделало бы историю о "Путине – спасителе России" более достоверной и придало бы России больше веса в мире, например, в отношениях с Китаем, тем "другом", дружить с которым России довольно трудно. Но быстрый экономический рост, видимо, несовместим с олигархической клептократической политической системой, которая имеется в наличии. И будучи как бы приговоренными к длительной стагнации, лишь иногда получая помощь от всплесков цен на нефть, они пытаются отвлечь внимание на консервативные ценности и национализм. И в этом они следуют примеру китайской компартии, которая, хотя была очень успешной экономически, стала менее успешной в последние годы, десятилетия невероятного роста заканчиваются, и они пытаются отвлечь внимание общества на роль Китая в мире, на китайский национализм, на китайское "достоинство". Это тот же трюк, который пытаются устроить Путин и его окружение. Это классика, наверное, еще со времен древнеримской республики. Но в конце концов, не думаю, что это их предпочтительная стратегия, процветающая экономика была бы выгоднее для них, но они застряли в другом мире.
– Эта стратегия контролируемой бедности выглядит вполне успешной. Можно услышать пропагандистские рассуждения о том, что россияне готовы жить беднее во имя величия страны, – и мы видим, что экономическая стагнация не ведет к росту протестов.
– Да, если вы ищете подтверждения, что стагнация ведет к росту протестов, вы будете разочарованы. Не думаю, что тут есть сильная связь, например, если режим способен адаптироваться и перенаправлять ресурсы в свои основные группы поддержки, скажем, госслужащих. Есть интересное новое исследование: средний класс традиционно считается более продемократическим, примеры можно найти по всему миру, но есть разница между средним классом, состоящим из госслужащих – "белых воротничков" (то есть офисных работников), и из людей с похожим уровнем доходов, работающих в частном секторе, – госслужащие гораздо больше поддерживают существующий режим. И одна из вещей, что мы видим при стагнации экономики, – заметный рост пропорции людей, занятых в госсекторе – половина работающего населения России, что весьма впечатляет (по данным МВФ, бюджетные организации и крупнейшие госкомпании ответственны за 50% занятости в формальном секторе. – Прим. ). И это увеличение размера государственного присутствия в экономике – стратегия по откупу этой части населения с предоставлением ей чего-то вроде социальных гарантий. И это показательно, если смотреть в течение многих лет ежегодное обращение Путина к нации: в мире обращают внимание на разговоры о вооружениях или Крыме, или Сирии, но эти аспекты речи обычно довольно малы по сравнению с тем, что Путин говорит о социальной поддержке, зарплатах, квартплате, входя в детали различных социальных программ, которые государство проводит по большей части неэффективно. Так что они активно пытаются расширить эти симбиотические отношения между людьми и государством.
– Вы говорили, что взаимосвязь между экономикой и политикой долгосрочная. Она какими сроками меряется, если исходить из опыта разных стран. Годы, десятилетия, столетия?
– Есть известная цитата из Джона Мейнарда Кейнса, что в долгосрочной перспективе мы все мертвы. А как долго это долго, мы выясним по ходу жизни. Не думаю, что есть четкие свидетельства, которые дадут ответ на этот вопрос. Большая часть наших исследований о взаимосвязи экономического роста и типа режима – демократии, автократии – основаны на данных, полученных самое давнее в начале 20-го века или середине 19-го, грубо, 150 лет. За это время мы видим различные волны демократизаций, часто после войн или после коллапса Советского Союза, но у нас просто недостаточно данных, чтобы понять: те модели, что мы видели в прошлом, – это результат исторических обстоятельств того времени или на их основании можно надежно прогнозировать будущее. Моя догадка – связь между экономическим ростом и сменой режима измеряется десятилетиями. Но мы не знаем. Мы знаем, что эта тенденция существует в долгосрочной перспективе, в среднем по разным странам. Но мы также знаем, что у политиков и политических систем есть много возможностей обходить это, это не является железным правилом. Я думаю об этом как о чем-то в общем и целом правильном, но довольно бессмысленном в прогнозировании будущего любой отдельной страны в пределах, скажем, двадцати лет. Так что я не думаю в терминах – Россия стала богаче или беднее, посмотрим, что будет с режимом. Экономические и политические кризисы могут быть катастрофой для режимов, но могут быть и окном возможностей, в зависимости от того, как они действуют, как отвечают на них.
– Ваша книга опубликована в России недавно, но была закончена и опубликована на Западе в 2019 году. За последний год в России произошло очень многое, режим резко ужесточился. Если бы вас попросили добавить главу о последних событиях, что бы вы в ней написали?
– В русском издании мы добавили – не главу, но секцию, – чтобы отразить тот факт, что российский режим стал гораздо жестче. На самом деле, режим ужесточался с каждым годом, начиная с 2004-го – и это важно осознавать, к этому надо привлекать внимание и возмущаться тем, что творит режим: то, что было сделано с Навальным, начиная с попытки его убийства, и затем после его возвращения в Россию – даже если это было предсказуемо, необходимо возмущаться этим и не терять ощущения этой продолжающейся невероятной несправедливости. Поменяли бы эти события наш анализ ситуации в России? Наверное, основа бы осталась неизменной. Режим должен бороться за поддержку общества, и есть разные пути для этого. Один путь – делать все более открыто, через выборы, на более открытом идеологическом пространстве, как это было в 2000-е и в 2010-е, и этого теперь все меньше, и опоры на репрессии все больше. Это всегда было важно для режима: контроль над СМИ, контроль над правилами выборов, использование силы или угроз против людей, которые режиму не нравятся – все это было частью системы длительное время. Сейчас мы видим еще большее смещение в эту сторону, но это не меняет общий характер режима. И я думаю, что эта стратегия может повести режим по пути, по которому он, может, и не хочет идти. Политологи используют понятие "ловушки репрессий": когда ради удержания власти режим чувствует себя вынужденным творить зверства, подобные тем, что были совершены против Алексея Навального и других. Их творили более чем десятилетие, но чем больше вы их творите, тем сложнее вернуться назад, развернуться к более открытой политике и выжить, это эффект необратимости репрессий.
– А почему более открытая политика позволяет выживать?
– Это дает больше легитимности в глазах общества. Мы говорили о политических традициях в российском обществе, о национализме, но также есть сильная демократическая традиция, и также традиция считать себя частью более широкой европейской цивилизации, и часть этого представления – демонстрация демократической политики. Поддержание фикции о выборах имеет какой-то смысл, я думаю: это очень важно для Путина – не закончить как Лукашенко. Беларусь можно закрыть, можно задержать тысячи людей, контролировать централизованную экономику, но вы просто не можете так сделать в России, она слишком велика, слишком богата, в ней слишком много образованных людей. Гораздо более жизнеспособная идея в долгосрочной перспективе – быть доминирующей партией. Если посмотреть на мировой опыт, наиболее успешные авторитарные, недемократические режимы – те, что опираются на крупные партии, всем заправляют и поддерживают какой-то вид выборной легитимности – такими были правящие режимы в Индии или Мексике долгое время. Это гораздо более успешная модель, чем военные диктатуры или диктатуры, построенные вокруг одного человека. Режим, построенный вокруг одного человека, особенно если население все больше воспринимает его как тирана, – очень рискованная стратегия. Я не думаю, что Кремлю очень нравится эта стратегия, но он может так или иначе двигаться в этом направлении из-за ловушки репрессий, о которой мы говорили.
– Возможно ли развернуть аргумент о репрессиях: не означает ли нынешняя волна преследований оппозиции и инакомыслящих, зачистка СМИ, что в Кремле не видят более столь сильной поддержки в обществе, как прежде?
– Думаю, да, похоже на то. Давайте посмотрим на выборы. Вплоть до последних парламентских выборов на телевидении можно было увидеть реальные дебаты, услышать вполне критические оценки, партии выступали с альтернативными платформами. Находясь у власти, действовали ли они в соответствии с этими платформами? Нет, и компартия – классический тому пример. Но они участвовали в выборах, будто это осмысленные выборы – и это позволяло Путину строить более широкие коалиции. Когда это исчезает, когда кандидатов устраняют настолько, что исчезает сама атмосфера выборов, интерес и доверие людей к этому процессу испаряется. Когда вся эта демократическая драпировка исчезает, природа режима становится все более очевидной, и общество разделяется, подобно тому, что мы видели в Беларуси. Ясно, что у Лукашенко есть какая-то база поддержки, но также ясно, что ее недостаточно, чтобы ему остаться у власти.
– Впервые с начала правления Путин, кажется, остался наедине со своим электоратом – оппозиция, СМИ, академические организации зачищены. Это не выглядит как предпочтительный вариант доминирования, о котором вы говорили.
– Мне тоже все больше так кажется. Мы видим в преддверии сентябрьских выборов в Думу, что отчасти из-за кампании "умного голосования" они опасаются даже небольших оппозиционных политиков – как никогда. Я думаю, это признак слабости, растущего отчаяния. Я думаю, это плохая стратегия. И возвращаясь к теме ловушки репрессий – они загоняют себя в угол, откуда трудно выбраться. Политически для режима это очень рискованно. Это не означает, что режим падет в сентябре, нет. Но по мере того, как режим следует дальше по пути репрессий, база его поддержки становится все более узкой, все больше преступлений, за которые придется отвечать в будущем, режим становится менее легитимным, – и ничто из этого не хорошо для режима в долгосрочной перспективе. Как мы замечаем в книге, "Путинский режим падет, когда никто не будет этого ожидать. И все же, оглянувшись назад, мы все поймем, что дело давно шло к этому". Авторитарные режимы рушатся внезапно, как правило. И я думаю, все вещи, которые мы видим сейчас, – усилившиеся репрессии, сужение политического пространства – будут среди факторов, на которые как на предвестники будут указывать историки и политологи после того, как путинский режим падет.
– Вы говорили о способности режима адаптироваться. Путин менялся, сначала опираясь на экономический рост, затем на националистическую риторику. Сейчас он опять меняется. Может ли он найти новые группы поддержки на этом пути?
– Я думаю, это будет трудно – обнаружить новую базу поддержки в российском обществе. Отличительной чертой режима в 2000-е и 2010-е была его экстраординарная способность адаптироваться. У него были очень гибкие подходы в политтехнологиях, в пропаганде. Они забрасывали в общество сразу множество идей и смотрели, какая вызовет отклик, и затем использовали ее – в книге мы обсуждали их стратегии в социальных сетях. Я уверен, они продолжат это делать, но будет все труднее в более репрессивном контексте найти привлекательную для общества идею, будет все труднее понять, что у людей на уме. Хотя они могут нас удивить, найдут "третью жизнь", новую мощную стратегию, но прямо сейчас это не кажется особенно вероятным. Выглядит так, что репрессии – их козырь, который разыгрывается все больше и больше. Это знак, что их широкая политическая стратегия скорее терпит неудачу, чем работает.
Валентин Барышников