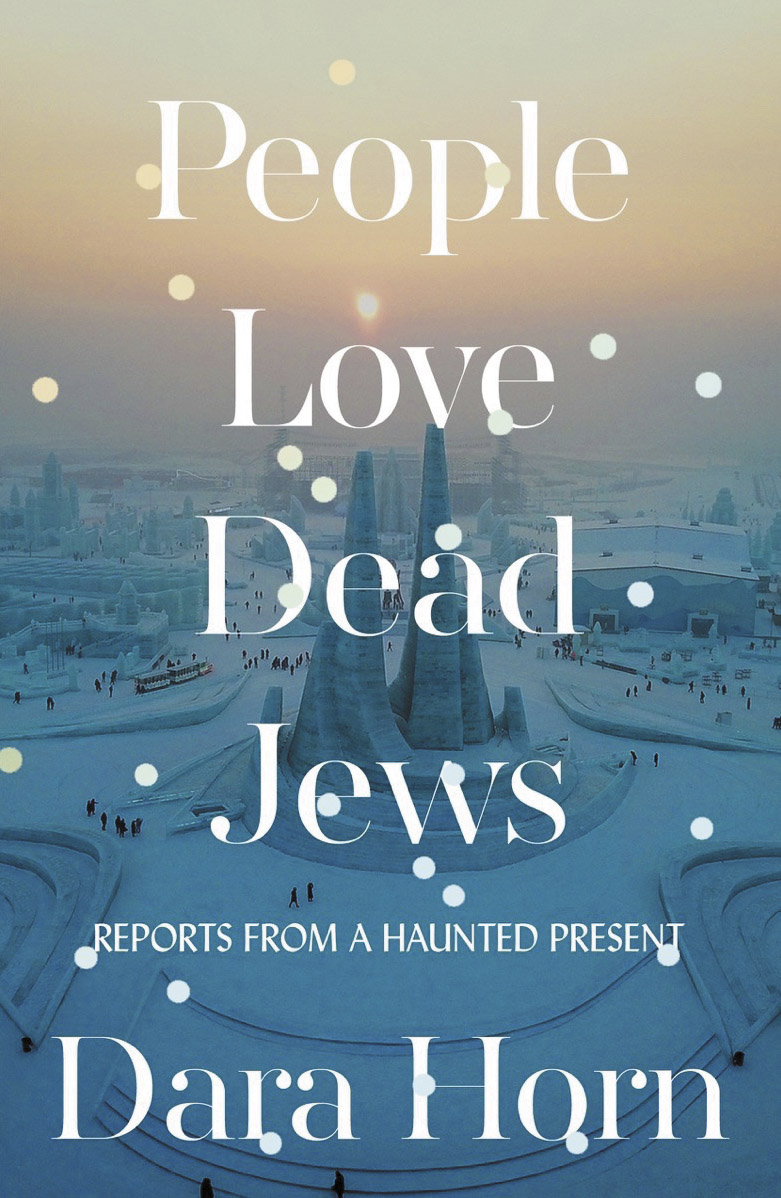Недельная глава «Пинхас». Элияу и звучание тонкой тишины
«И вот, было к нему слово Г‑сподне, и сказал Он ему: “Что тебе здесь, Элияу?” Тот ответил: “Возревновал я о Г‑споде, Боге воинств…” И сказал ему Он: “Выйди и стань на горе пред Г‑сподом. И вот, Г‑сподь пройдет, и большой и сильный ветер, ломающий горы и сокрушающий скалы, пред Г‑сподом; но не в ветре Г‑сподь. А после ветра — землетрясение; но не в землетрясении Г‑сподь. А после землетрясения — огонь; но не в огне Г‑сподь. А после огня — звучание тонкой тишины”» (Млахим I, 19:9–12).
В 1165 году перед марокканским еврейством встал болезненный вопрос. Фанатичная мусульманская секта Альмохадов захватила власть и начала проводить политику принудительного обращения в ислам. Еврейская община оказалась перед выбором: либо заявить о принятии мусульманской веры, либо умереть.
Одни выбрали мученичество. Другие — изгнание. Но некоторые поддались страху и приняли другую веру. Однако внутренне они оставались евреями и тайно отправляли обряды иудаизма. То были анусим — криптоиудеи, или, как позднее стали называть их испанцы, марраны.
Их существование ставило других евреев перед нравственной проблемой. Как к ним относиться? Внешне дело выглядело так, будто они предали свою общину и ее религиозное наследие. Вдобавок их пример был деморализующим: подтачивал решимость тех евреев, которые намеревались сопротивляться вопреки всему. Но многие криптоиудеи все же стремились оставаться евреями, тайно соблюдать заповеди и, когда представится возможность, посещать синагогу и молиться.
Один криптоиудей задал вопрос некоему раввину. Сказал, что по принуждению обратился в другую веру, но в душе остался благочестивым евреем. Может ли он приобрести себе заслугу, соблюдая за закрытыми дверями как можно больше заповедей Торы — то есть все, которые только возможно в его положении? Иначе говоря, есть ли для него еще надежда, что он останется евреем?
Раввин дал категоричный ответ. Еврей, принявший ислам, лишился членства в еврейской общине. Он больше не принадлежит к дому Израиля. Такому человеку бессмысленно соблюдать заповеди. И более того, грешно. Выбор нужно делать непреклонно, между двумя противоположностями: либо быть евреем, либо им не быть. Решаешь быть евреем — будь готов скорее умереть, чем пойти на компромисс. Решаешь перестать быть евреем — даже не пытайся вновь войти в дом, из которого дезертировал.
Твердость позиции этого раввина может внушить нам уважение. Он без экивоков сформулировал нравственный выбор. Бывают времена, когда в делах веры героизм — непреложный долг. Ничто меньшее, чем героизм, не позволительно. Ответ раввина, хоть и суров, не лишен мужества. Однако другой раввин не согласился с ним.
Имя первого раввина до нас не дошло, но, как звали второго, мы знаем. То был Рамбам, величайший раввин Средневековья. О гонениях на религиозной почве Рамбам знал не понаслышке. Родился он в 1135 году в Кордове, а спустя примерно тринадцать лет поневоле покинул вместе с семьей этот город, захваченный Альмохадами. Двенадцать лет прошли в скитаниях. В 1160 году, благодаря временной либерализации режима Альмохадов, семья смогла обосноваться в Марокко. Спустя еще пять лет Рамбам вновь был вынужден сняться с места — сперва поселился в Стране Израиля, а в конце концов — в Египте.
От ответа первого раввина Рамбам впал в такое негодование, что написал свой респонс. В нем он открыто дистанцируется от более раннего вердикта и осуждает его автора, характеризуя последнего такими словами: «Человек, считающий себя мудрецом, из тех, кого не коснулись эти гонения, да отменит их Всевышний, настигшие большинство еврейских общин» .
Ответ Рамбама — «Игерет а‑шмад» («Послание о гонениях») — основательный трактат, ценный сам по себе . Поразительно, что хотя начинается он с резких слов, но в качестве выводов здесь предъявлены едва ли менее жесткие требования, чем в респонсе первого раввина. Рамбам пишет: если ты подвергаешься гонениям на религиозной почве, тебе следует уехать и поселиться в других местах. «Если его заставляют нарушить одну из заповедей — нельзя оставаться там ни в коем случае, пусть бросает все и идет, днем и ночью, пока не найдет места, где он сможет спокойно следовать своей религии» . Это следует предпочесть мученичеству.
Однако тот, кто предпочел пойти на смерть, но не отречься от своей веры, «совершил благое дело» , так как отдал жизнь ради освящения Имени Б‑жия. А вот что неприемлемо, так это оставаться в тех же местах и оправдывать себя, что если и грешишь, то исключительно под давлением извне. Поступать так — значит осквернять Имя Б‑жие «если не по своей воле, то близко к этому» .
Таковы выводы Рамбама. Но им сопутствует — и в этом основная мысль его рассуждений — непреклонная защита тех, кто совершил тот самый проступок, которого, согласно вердикту самого же Рамбама, совершать не следует. Послание дарует криптоиудеям надежду.
Они совершили проступок. Но проступок этот простительный. Они действовали по принуждению, под страхом смерти. Они остаются евреями. Деяния, которые они совершают в качестве евреев, все равно удостаиваются благосклонности в глазах Б‑га. И благосклонности, умноженной надвое: ведь они выполняют заповеди определенно не для того, чтобы завоевать благосклонность в глазах других людей. Они знают, что, действуя как евреи, подвергают себя риску разоблачения и смерти. Их тайная приверженность своей вере — своего рода героизм.
Ошибка, заключенная в вердикте первого раввина, — утверждение, что еврей, поддавшийся страху, отрекся от своей веры и подлежит исключению из общины. Рамбам утверждает, что это не так: «Людей, прилюдно нарушающих субботу, не стоит презирать и отдалять, наоборот — их следует приближать и подталкивать к соблюдению заповедей» . Он дает смелую трактовку Писанию, цитируя стих: «Не презирают вора, если он крадет, чтобы насытить себя» (Мишлей, 6:30). Криптоиудеи, приходящие в синагогу, изголодались по еврейской молитве. Они «крадут» мгновения, в течение которых ощущают себя частью общины. Их следует не презирать, а радушно принимать.
Это послание — великолепный образец решения труднейшей из нравственных проблем, как сочетать повеления с состраданием. Рамбам, не оставляя простора для сомнений, выражает свой взгляд на то, как следует поступать евреям. Но в то же время он бескомпромиссно защищает тех, кто не сумел так поступить. Он не одобряет того, что они совершили. Но он защищает то, кем они являются. Он просит нас понять, в каком они положении. Он дает им предлог для самоуважения. Распахивает перед ними двери общины.
В кульминации своих рассуждений Рамбам ссылается на примечательную серию отрывков из мидрашей, объединенных такой темой: пророки должны не осуждать свой народ, а заступаться за него перед Б‑гом. Когда Моше, получив поручение вывести народ из Египта, ответил: «Но они мне не поверят» (Шмот, 4:1), его реакция на первый взгляд была обоснованной. Из последующего библейского повествования следует, что сомнения Моше были небеспочвенными. Таким народом, как сыны Израиля, было непросто руководить. Но в мидраше говорится, что Б‑г ответил Моше: «Они верящие, сыны верящих, а ты в конце концов не поверишь» (Шабат, 97а).
Процитировав целую серию схожих фрагментов, Рамбам замечает: если такая кара обрушилась на столпов вселенной, величайших пророков за мимолетный упрек в адрес народа, хотя народ был виновен в грехах, за которые его порицали, то можем ли мы вообразить, какая кара ждет тех, кто критикует криптоиудеев?.. Ибо криптоиудеи под угрозой смерти, не отказываясь от своей веры, объявили себя приверженцами другой религии, в которую на самом деле не верят.
Анализируя этот вопрос, Рамбам обращается к пророку Элияу и тексту, образующему афтару недельной главы «Пинхас». В правление Ахава и Йезевели официальным вероисповеданием стало поклонение Баалю. Б‑жьих пророков убивали. Те, кто уцелел, скрывались. В ответ Элияу бросил публичный вызов жрецам Бааля на горе Кармель. Оказавшись лицом к лицу с четырьмя сотнями представителей Бааля, он намеревался раз и навсегда разрешить вопрос о религиозной истине.
Он велел собравшимся выбрать одно из двух: либо Б‑га, либо Бааля. Заявил, что им больше нельзя «перескакивать с ветки на ветку» (Млахим I, 18:21). Истину предстояло установить экспериментальным путем. Если истина с Баалем, огонь сожжет жертву, приготовленную жрецами. Если истина с Б‑гом, огонь сойдет с небес на жертву Элияу.
В поединке победил Элияу. Люди закричали: «Г‑сподь есть Б‑г!» Жрецы Бааля обратились в бегство. Но это не конец истории.
Йезевель подписала указ о смертном приговоре Элияу. Элияу бежал и совершил восхождение на гору Хорев. Там его посетило странное видение. Он видел вихрь, а затем землетрясение, а затем пожар. Но ему дают понять, что Б‑г — не в этих явлениях. Б‑г заговаривает с ним «звучанием тонкой тишины» и велит ему назначить преемником Элишу.

Эпизод загадочный. Особенно из‑за странной особенности текста. Непосредственно перед видением Б‑г спрашивает: «Что тебе здесь, Элияу?», а Элияу отвечает: «Возревновал я о Г‑споде, Боге воинств…» (Млахим I, 19:9–10). Непосредственно после видения Б‑г задает тот же вопрос, а Элияу дает тот же ответ (Млахим I, 19:13–14). Мидраш превращает этот текст в диалог:
Элияу: Оставили завет Твой сыны Израилевы.
Б‑г: Разве это твой завет?
Элияу: Они разрушили Твои жертвенники.
Б‑г: Разве это были твои жертвенники?
Элияу: Они убили мечом Твоих пророков.
Б‑г: Но ты‑то жив.
Элияу: Один только я и остался.
Б‑г: Вместо того чтобы обрушивать обвинения на сынов Израиля, не следовало ли тебе заступиться за них?
Смысл мидраша ясен. Фанатик берет на себя роль Б‑га. Но Б‑г ждет от Своих пророков совсем другого: того, что они будут защитниками, а не обвинителями.
Теперь повторяющиеся вопрос и ответ становятся ясны во всей их трагической глубине. Элияу заявляет, что возревновал о Г‑споде. Ему показывают, что Б‑г открывается не в драматичном столкновении: не в вихре, не в землетрясении и не в огне. Затем Б‑г снова задает ему вопрос: «Что тебе здесь, Элияу?» Элияу снова отвечает, что возревновал о Г‑споде. Он не понял, что роль религиозного лидера требует добродетели иного рода, той, что сродни звучанию тонкой тишины. Тогда Б‑г указывает, что лидером должен стать кто‑то иной. Элияу должен передать свой плащ — то есть свои полномочия — Элише.
Во времена потрясений у религиозных лидеров возникает почти непреодолимый соблазн занять воинственную позицию. Мол, необходимо не только провозглашать истину, но и разоблачать ложь. Выбор следует формулировать как категоричное «или/или». Не осуждать — значит потворствовать. Когда раввин осудил криптоиудеев, его сердце было полно веры, логика была на его стороне, а у его позиции был прецедент — позиция Элияу.
Но мидраш и Рамбам предложили другую модель поведения. Пророк слышит не одно повеление, а два: направлять людей на путь истинный и проявлять сострадание, любить истину и проявлять солидарность с теми, кто из‑за каких‑то помех потерял истину из виду. Хранить традиции и одновременно защищать тех людей, которых осуждают другие, — трудная и необходимая задача религиозных лидеров в нерелигиозную эпоху.