Мирон
Я. Амусья,
Протирание очков
(Как мне удалось не получить государственной премии и не
сделать открытие)
Не делай соседу того, что
ненавистно тебе: в этом вся Тора. Остальное - комментарии. Иди и учись
Гиллель
И так во всем, как хотите,
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и
пророки
Евангелие от
Матфея (Мф. 7:12)
Не делай другим того, чего
не желаешь себе
Конфуций
Я расскажу здесь несколько абсолютно правдивых
историй о ярких, достойных и талантливых людях, которые, однако, во вполне
обыденных ситуациях совершенно спокойно выбирали лично свой интерес в ущерб
другому человеку. Притом, делали они это просто играючи, совсем ничем не
рискуя. Замечу, что, поступи они в этих ситуациях более достойно, это, думаю, не причинило бы им никакого
ущерба. Думаю, что двигало ими нежелание считаться с другим, и желание устранить
малейшую, даже мнимую конкуренцию или неудобство для себя.
Происшедшее не отразилось на моих
отношениях с этими людьми, с их стороны потому, что они, скорее всего, просто в
упор не видели проблемы, с моей – потому что проще простить, чем жить,
преисполненным раздражением и жаждой неосуществимой мести. Но, чуть
перефразируя известное, скажу – простить не значит понять. Я описанных
поступков так, по сути, и не понял, объективного смысла в них не увидел. Но они
помогли мне «протереть очки», поскольку я увидел воочию несовершенство
человеческого рода. Ведь если такие исключительно достойные его представители
могут действовать подобным образом, так что же ждать от «простых смертных»?!
Меня могут спросить, руководствуясь
принципом «не судите, и не судимы будете», скольких я сам оттолкнул, даже не
заметив в момент, что толкаю? Уверенно отвечаю – ни одного. Возможно, это
произошло потому, что у меня не было такой возможности, и я был «нетолчливый
Джон» просто из-за того, что толкаться было нечем. Но, так или иначе, я не
толкнул никого, даже в рамках своих малых возможностей. А что бы было, коль
возможности были бы больше – доказывать не берусь. Это за рамками заметки, или,
как говаривали наши предки, «если бы у бабушки были колёса, она была бы
дилижансом».
В основном приведенные ситуации интересны
тем, что в них действия происходят без приказа начальства столь высокого, что
неповиновение ему может разрушить карьеру, или, тем более, лишить жизни. Приведу
здесь несколько соответствующих примеров.
1.
В самом начале 1985 я как-то
листал в библиотеке ФТИ журнал Вестник Академии наук СССР и натолкнулся в нём
на сообщение о регистрации в 1984 научного открытия, которое меня
непосредственно касалось. Там говорилось об экспериментальном обнаружении
авторами открытия, совершённого в 1962, мощного максимума в сечении поглощения
мягкого рентгеновского излучения атомами. Сечение это, согласно формуле открытия,
«определяется реальной структурой электронных оболочек атомов и взаимодействием
между электронами в процессе фотопоглощения». Всего этого, особенно роли
взаимодействия атомных электронов, без расчётов, т.е. прямо из опыта, авторы
увидеть не могли, а проводить сложные расчёты авторы сами не умели.
Сообщение об обнаружении упомянутого
выше максимума появилось в 1964. Один из авторов, фактически создатель
использованного в работе прибора, умер в 1965. К 1984 жив был лишь второй,
выдающаяся и всемирно известная и признанная исследовательница процессов
фотоионизации. Она прекрасно знала о роли взаимодействия между электронами в
формировании обнаруженного в 1964 максимума из моих с сотрудниками работ. Больше
было просто неоткуда-с, как говаривали в старину. Я и мои первые ученики эти
максимумы предвидели, работали над количественным объяснением опытов несколько
лет, и свои результаты публиковали в 1967-71 гг. Эти результаты обсуждали с
автором будущего открытия непрестанно, даже бегая к телефону - автомату, поскольку
тогда у меня не было ещё домашнего телефона.
Я сразу позвонил автору открытия,
правильного и очень важного, что подтвердили также исследования, проведенные и
за последовавшие после 1984 тридцать три года. Мой вопрос был короток: «Как вы
прямо из эксперимента узнали про роль взаимодействия электронов в фотоионизации
атомов?». Она мгновенно поняла, о чём речь, и сказала: "Простите, Мирон, если
можете". Я смог и простил, но не понял. Мы продолжали обсуждения,
участвовали в конференциях, взаимодействовали довольно тесно до самой её
безвременной кончины в 1986, но прежняя откровенность несколько пострадала.
2.

В 1965 я увлёкся возможностью коллективных
колебаний электронных оболочек атомов, и оценил их частоты. Колебания эти мне
очень полюбились. Начал думать, где и в каких диковинных ситуациях их можно
обнаружить. Но оказалось, как писал поэт, «
Ах!
Если любит кто кого,/ Зачем ума искать и ездить так далеко?». Прямо под боком нашлись недавно сделанные опыты, как
будто подтверждавшие созданную моим воображением теоретическую картину.
Экзотическая
для области знаний интерпретация вызвала значительный подъём интереса к опытным
данным. Иную интерпретацию, гораздо более традиционную для этой области знаний,
предложила американская знаменитость. А в 1972 серия работ, включая ту, что
была мною интерпретирована, получила Ленинскую премию. Состав премируемой
группы был не без конъюнктурного налёта - к основным работам, близким мне,
которые считаю просто блестящими, добавилось нечто хорошее, научно-добротное, но
вполне нормальное. «Возмутителя спокойствия», т. е. меня, в список не включили.
Как-то сразу отставили в сторону, даже не пригласив на сопутствующие торжества.
Было обидно, и, прямо скажу, несправедливо, поскольку награждённые
герои-максимумы, по меньшей мере, в то время, принадлежали и мне. Но в
молодости всё быстро заживает. Однако это не значит, что забывается. Помнится,
да ещё как!
3.
Был ещё курьёзный случай – в самом
начале семидесятых мой коллега и друг нашел московского приятеля, которого
убедил помочь нам получить мощное финансирование от Государственного научно –
технического комитета (ГНТК), ведавшего всем финансированием науки, в первую
очередь её части, занятой военными делами. Мы поняли, что теперь главное –
убедить директора института подписать наш проект, где просили много миллионов
рублей и 20 штатных единиц. Напомню, что по официальному курсу рубль был тогда почти
вдвое дороже доллара.
Надежда была на то, что нам из просимого достанется
примерно треть – половина. В том, что проект финансирование получит, хоть к
делу обороны отношение и не имел, мы, самоуверенные, не сомневались. Уж больно
проект был хорош. Я готовился к длительной полемике с директором. Но, едва
пробежав наш текст, он его подписал. Наивные, как мы ликовали, и делили места!
Оказалось, что заботы были излишни, поскольку из полученного финансирования и
штатных единиц нам не дали ничего – всё досталось другим людям, ушло на так
называемые «основные» направления работы института! В результате, я на многие
годы потерял охоту «искать клады», поскольку на шее у регулярного бюджета было
много спокойнее. Да и происшествие позволило оценить дополнительную свободу,
возникающую, когда нет борьбы «за деньги». Прибавка к свободе оказалась
достойно высокой.
4.
В 1976 пришли как-то ко мне
в комнату экспериментаторы. Они занимались изучением спектра фотонов,
вылетающих при столкновении медленных атомов, и построили кривую зависимости выхода
фотонов от их энергии. На той части кривой, где, казалось бы, ей следовало
монотонно убывать, на этом самом склоне, явственно виден был небольшой максимум.
Замечу, что работа, проделанная экспериментаторами, была большая и сложная, так
как обнаруженный эффект, хоть и очень информативный, был крайне мал.
Однако это я понял, что происходит. Я
им сказал, что экспериментальный максимум свидетельствует о том, что в опыте
может удаляться не только один, но и сразу два электрона из внутренней атомной
оболочки. Образующиеся вакансии, взаимодействуя между собой, могут испускать в
процессе распада и один фотон с энергией, равной сумме энергий обеих вакансий. Ранее,
также в обсуждении с экспериментаторами, я увидел проявления схожего
интересного процесса – испускания одного электрона при распаде состояний с
двумя вакансиями.
Эти процессы были прямым проявлением
взаимодействия атомных электронов между собой, и позволяли определять его силу.
Естественно было бы публиковать результаты вместе, но руководитель
экспериментаторов предпочёл «табачок врозь», и настоял на независимой посылке
пары работ, но со взаимными ссылками, в ведущий советский физический журнал. Он
полагал, что статьи выйдут одна за другой.
По какой-то причине нашу статью советский
журнал отклонил, и её принял хороший западный. Мы, из благородства, и желая быть
примером доброй воли, одного экспериментатора в свой авторский коллектив
включили, а они нас – нет. История оставила неприятные чувства, которые резко
возросли в 1981, когда выяснилась, что наши коллеги по обсуждению составили
основную часть коллектива, получившего Государственную премию в 1981. А
награждены они были в большой мере за получение тех результатов, в понимании
которых мы сыграли важную роль.
И в этом случае я коллег простил, о чём не жалею. Хотя,
признаюсь, описанные выше пересечения с экспериментаторами заставили меня
осторожнее относиться к сотрудничеству с ними. Конечно, это экспериментаторы
непосредственно «разговаривают» с природой и могут вынести решающий
приговор теоретической работе. Но они нередко забывают о роли языка в этом
самом разговоре, который создаётся не только ими, точнее, в большой мере не
ими, и без которого разговор просто невозможен. Один экспериментатор, когда мы совместно
посещали «фотонную фабрику» в Цукубе (Япония) в 1995, сказал мне: «Это
место, где создаётся истинная наука». Я ответил: «Нет, это место, где
истинную науку проверяют».
Мы обсуждали наши результаты с экспериментаторами и
после описанных происшествий. Но для себя я решил – приходит идея, получай
результат, публикуй его, а не обсуждай с экспериментаторами до публикации.
Лучше опубликовать неправильный результат, чем остаться с носом из-за того, что
поздно опубликовал.
Вспомнил, как старый итальянский профессор, которого Э.
Ферми, тогда студент, попросил рассказать про его работу, ответил: «Вы прочтёте
её в трудах академии Линчеи». Это возмутило Ферми, поскольку в его кругу такой
ответ звучал дико. Но, как показывает мой рабочий опыт, возмущение Ферми не
совсем справедливо, да и старый профессор вовсе не был настолько неправ, как
это казалось блестящему студенту.
5.
Идёт 1984. Организаторы двух,
следующих одна за другой, международных конференций в Лейпциге и Дрездене,
приглашают меня принять в них участие. Предлагают все расходы по поездке
отплатить из бюджета конференций. Думаю, что еду. Уж в ГДР то, да с полной
оплатой – конечно, пустят! Но академия решает послать не одного меня, а делегацию,
хотя на это у неё нет денег. У делегации же должен быть глава, и им, ясное
дело, я не могу быть. Назначают (или он это делает сам?) заместителя директора,
человека влиятельного и принципиального, учёного крупного и признанного. Он едет
на «мои деньги», а меня решают отправить в научный туризм, за личный счёт. Хоть
и обиженный, я на замену соглашаюсь, в том смысле, что еду туристом. А за счёт
немцев едет наш глава. По приезде, как «научного туриста», уже немцы норовят
поселить кое-как, в том числе, и в студенческих хостелах. С этим в меру сил борюсь.
В Лейпциге борьба завершилась
неожиданным успехом – меня, вместе с парой классных научных работников - дам,
селят в особняк Ф. Мендельсона, тогда Дом учёных ГДР. Мы там каждый вечер даём балы
– я поставляю известных всему миру «мальчиков», а «девочки» нас угощают тем,
что привезли, и приготовили, служа, тем самым, одновременно гостями и кухарками
тени Мендельсона. Обидчика моего, однако, не позвали ни разу. Это была наша
общая своеобразная месть.
О конференциях приятно вспомнить во
всех отношениях. Но примечательно, что тот, кто поехал на «мои деньги», даже не
попытался объясниться. Он просто не видел проблемы – железный закон иерархии
определял его правоту, не оставляя места сомнениям и колебаниям.
6. В 1989 я задумал совершить кругосветное
путешествие. Для этого не нужно было нанимать корабль или готовится к
пересечению необитаемых пространств. Просто так сложились возможности. Надо
было лишь воспользоваться возможностью, и принять приглашение с полной оплатой поехать
на конференцию в Гонолулу (Гавайские острова), затем заглянуть в гости к одному
профессору на Западном побережье США и к другому – в Стони-Брук, что на Востоке.
А в конце, тоже на американские деньги, следовало поучаствовать в конференции в
городе моей мечты - Нью-Йорке. Самолёты провезли бы меня по кругу Москва -
Токио – Гонолулу – Лос-Анджелес – Нью-Йорк – Москва, а деньги готовы были дать конференции
и приглашавшие американские профессора. Но даже в реформенном 1989 было ясно,
что никто меня в такую поездку самого не отпустит.
И я придумал выход – лететь туда же,
но с группой коллег. Коллеги – прекрасные научные работники, и их участию
конференции были бы рады. Ещё нажим с моей стороны как члена программных
комитетов, вдобавок к собственным письмам желающих ехать – и хозяева готовы
оплатить всем нам четверым, гостям из СССР, пребывание на конференции и так
называемый организационный взнос. Один из членов группы – заместитель
директора, дважды лауреат, член-корреспондент АНСССР, отвечает в Институте за
иностранные дела. Словом, всё должно сработать. Правда, Аэрофлот продавал тогда
билеты только на себя и на одну пересадку с использованием другой компании.
Т.е. в Гонолулу мы можем лететь по билетам Аэрофлота, а вот сегмент Гонолулу -
Сан-Франциско – надо покупать за валюту, которой нет у нас и в помине. Опять
пишу организаторам, они входят в положение всей группы, и находят деньги для
билетов. Всё ОК – летим кругосветно!
«Мирон Янкелевич, а почему у вас такие
дешёвые билеты?» - спросила Лена, ответственная за организацию поездки. И
действительно, у других участников нашей поездки билеты были чуть ли не в три
раза дороже моих. У меня нет ответа – выглядят билеты как будто одинаково. В
гостинице в Москве у меня начинается приступ тахикардии. Врач говорит – ехать
нельзя. Но отказаться от кругосветки не хочу. Врача удаётся уговорить – он не
будет мешать. При посадке в самолет выясняется, что мои коллеги, все трое,
пользуясь своим положением в Институте, себе взяли первый класс, а мне –
экономический! Но после приступа оставить меня в экономическом классе, а самим
лезть в первом, было просто невозможно. Меняться не хотелось. Пришлось уговаривать
стюардесс, чтоб пустили меня в первый класс Ил-62 при условии, если обойдусь
без коньяка. Это было в тот момент наиболее приемлемый выход из положения, тем
более, что пить мне было нельзя.
Прилетаем в Нариту. Ждать нашего рейса
на Гонолулу надо десять часов. Я ищу место, где полежать, а коллегам хочется
поесть. Но для этого нужно хоть и немного, но валюты, которой у них ещё нет (на
дворе, напомню, 1989), а у меня было ещё с прошлогодней поездки в Англию. Есть
самому не хотелось, а на коллег был зол, и им ничего не дал. Пост, кроме того,
проясняет мозг.
Было любопытно, как проблема
классности разрешится, если разрешится вообще, на обратном пути – из Нью-Йорка
в Москву. Однако случилось непредвиденное – мне помог министр обороны СССР
маршал Язов. Он решил возвращаться с какого-то визита тем же рейсом Ил-86, на
который у нас были билеты. Естественно, никого больше в первый класс не
пускали, и наш вылет задержался на сутки. Это было мне приятно, и ещё ночь в
Гринич вилладж, на Манхэттене, у моего троюродного брата, отнюдь не казалась
лишней. Зато нас всех оформили одинаково, бизнес классом, на рейс компании
Пан-Американ: на первый в Пан Американ первый в Аэрофлоте не тянул, и нашли
компромисс в мою пользу. Вылет из Нью-Йорка я отметил приступом тахикардии, но
второй этаж и бизнес-класс Боинга-747 способствовали выздоровлению.
Кстати, именно в том полёте я
записался в клуб частых путешественников компании Пан-Америкен. Действовал я по
принципу – раз бесплатно – надо взять. Давно обанкротилась эта компания, её останки
купила Дельта, а клуб существует по-прежнему, и я уже раза четыре пересекал
океан туда и обратно на премиальные мили, собранные от полётов, ничего не платя
за билет. Этот эпизод подтверждает принцип – что ни делается – к лучшему. Он
справедлив далеко не всегда, но, в общем, совсем не редко.
7.
Когда кругом буквально одни
лауреаты всяких государственных премий, как-то неуютно быть одиноким лишенцем.
Тем более, что в ранце что-то по-прежнему побрякивает, и не даёт покоя. Важную
роль играет и некритическая мысль – «А я что – хуже?!». И в ответ уже несутся
голоса «нет, нет», в первую очередь – внутренние. Как-то в 1999 я собрал работы,
и увидел, что это хорошо. Так же говорили и приятели-лауреаты. Прозондировали у
директора, который инициативу одобрил полностью.
Дело
вынесли на Совет, до окончания срока подачи документов в Москву совсем немного
времени, так что успевали на пределе. Сидим, ждём начала Совета, а у них первый
то вопрос был про нас, а не про какую-нибудь Африку. Директор запоздал, или
задержался, как обычно, и начал с разноса Учёному секретарю – мол, допустил он
какую-то оформительскую оплошность, в результате чего наш вопрос сейчас
снимается с повестки дня, откладывается на год, и Совет переходит к «Африке». А
посторонних, т.е. меня и коллег, просят удалиться. «И пошли они, зноем палимы,
повторяя «Суди его Бог», разводя безнадёжно руками», и кипя возмущением.
Быстро
пролетает год. Опять Совет. Всё делается заранее, неторопливо. На заседании выступающие
поддерживают, голосование проходим единогласно. Особо ценю самую горячую и
неожиданную поддержку одного дважды лауреата и академика, увы, уже покойного. Всё
даже слишком хорошо, чтобы быть правдой. Поэтому после Совета захожу к
директору и говорю: «Имярек, вы лично поддерживаете
нас?» А он не только в институте, но и в комитете по присуждению
государственных премий, по сути, самый большой начальник. Отвечает: «Поддерживаю, Мирон. На все 100%. Только
перед самым заседанием комитета зайдите ко мне, и напомните основные положения
ваших работ». Я, натурально, обещал.
Уже
отправлены из института все бумаги, огромная пояснительная записка на 100
страниц. И вдруг узнаем, что от института выдвигается ещё одна работа, в
которой участник – сам директор. Ясно, что в таком соревновании у нас нет
шансов. Почему так случилось – достоверно не знаю. Возможно, директору
захотелось доказать себе и всем, что он ещё не потухший вулкан. Как потом
рассказали, перед обсуждением в Комиссии по премиям он сделал выглядевший
красивым жест – заявил, что не будет участвовать при рассмотрении работ из своего
института, чтобы не давить на членов комиссии. Расчёт оказался верным – нас
поддержать против его работы члены комиссии не рискнули. А ведь мы были уже в
так называемом деятелями литературы, коротком премиальном листе!
Однако
и здесь злобы я не затаил, поскольку она разрушает себя, да и бесполезна. Решил
ответить публикацией книги, для чего взяли пояснительную записку. Жалею, что не
указал на ней: «Выдвинута единогласно Учёным советом ФТИ под председательством
Имярек на соискание государственной премии». В шутку называем теперь себя
номинантами на государственную премию РФ». Есть же номинанты на Оскара? Вот и
мы номинанты-Росинанты.
Но
первая книга породила желание написать на эту тему и вторую, затем третью,
четвёртую и, совсем недавно, пятую. Так они и стоят на полке – коричневая, две
синих, красная и зелёная. Есть, что показать приятелям и внукам. А премия,
каких-то $10000 на четверых, всего ничего. К сегодняшнему дню уже бы
потратились, и забыли. В общем, я считаю, что не прогадал, однако, как видит
читатель, запомнил. Кстати, к 2005 общее число премий сократили, а размер раз в
десять увеличили. Ограничили и максимальное число участников тремя, как в
Нобелевской премии. Всё, как в споре Эллочки с Вандербильтихой. Директор, со
своей большой группой пройти бы не смог, и он о планируемом нововведении вероятнее
всего знал, а потому торопился.
Встречаясь
иногда с директором, сейчас уже бывшим, человеком старым даже более, чем я,
раскланиваясь с ним и обмениваясь парой фраз на тему «Как ты? Как ты?»
признаков чего-то типа сожаления о происшедшем, я у него не вижу. Либо полагает,
что «Каждому – своё», либо попросту не помнит об инциденте или его даже никогда
инцидентом то и не считал.
Знаю,
что я не уникален, и подобные истории случались не только со мной. Однако в
целом проблема взаимоотношений коллег при делёжке пирога, возникающего не
только в процессе его испекания, но и ранее, в процессе понимания, возможно ли
тут что-то испечь, и стоит ли это делать – очень важна.
Жизнь с блокадных времён, и
последующий личный, воистину – многолетний опыт, да и история моего народа, выучили
прощать почти всё, но не забывать почти ничего, даже в общем те мелкие
проступки очень хороших людей, о которых я здесь написал. Повторяю, они крупные
учёные и вполне хорошие люди. Именно поэтому я, несмотря на любовь к
конкретности, здесь фамилии опустил.
Всегда
помню слова из поэмы Б. Пастернака «Лейтенант
Шмидт», сказанные её героем: «Наверно, вы не дрогнете, сметая человека. Что ж,
мученики догмата, вы тоже - жертвы века». Однако, применение такой оценки к
описанным мною случаям было бы совсем неоправданно без самокритики. Я не
воспринимаю себя просто пострадавшей стороной ни в малейшей мере.
Не
считаю других просто виновниками моих обид и переживаний. Такая упрощённая
картина была бы просто несправедливой. В происшедшем большую роль играет и то,
как те или иные обстоятельства видятся тебе, а как – другим. И важный здесь
урок, пусть и запоздалый - мало что-то интересное придумать. Надо суметь
своевременно убедить других, что придуманное – не тривиальность, и у него есть,
чёрт побери, автор, которому вы, другие, кое-чем обязаны.
Санкт-Петербург

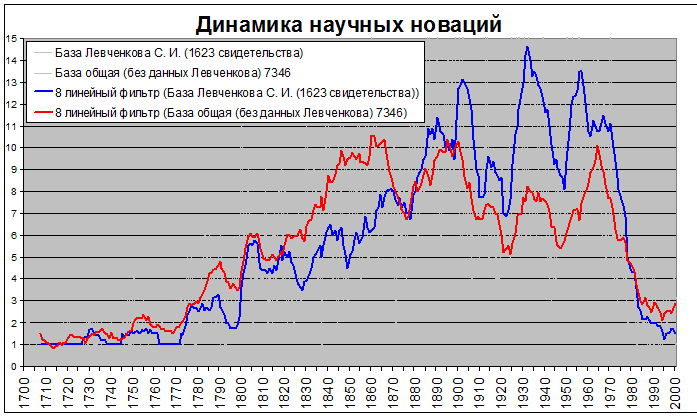
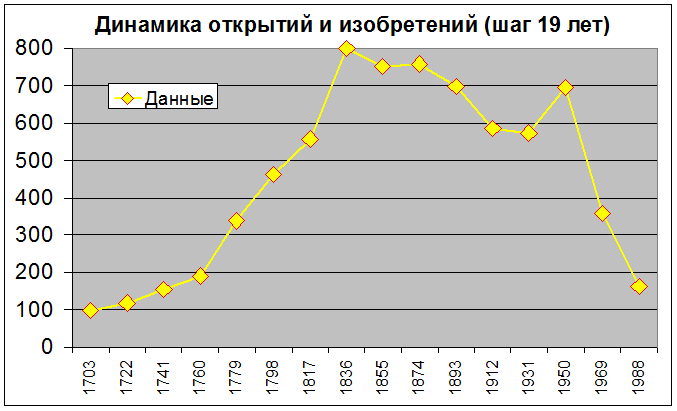



 В 1965 я увлёкся возможностью коллективных
колебаний электронных оболочек атомов, и оценил их частоты. Колебания эти мне
очень полюбились. Начал думать, где и в каких диковинных ситуациях их можно
обнаружить. Но оказалось, как писал поэт, «
В 1965 я увлёкся возможностью коллективных
колебаний электронных оболочек атомов, и оценил их частоты. Колебания эти мне
очень полюбились. Начал думать, где и в каких диковинных ситуациях их можно
обнаружить. Но оказалось, как писал поэт, «