(Железнодорожный) барон
Материал любезно предоставлен Jewish Review of Books
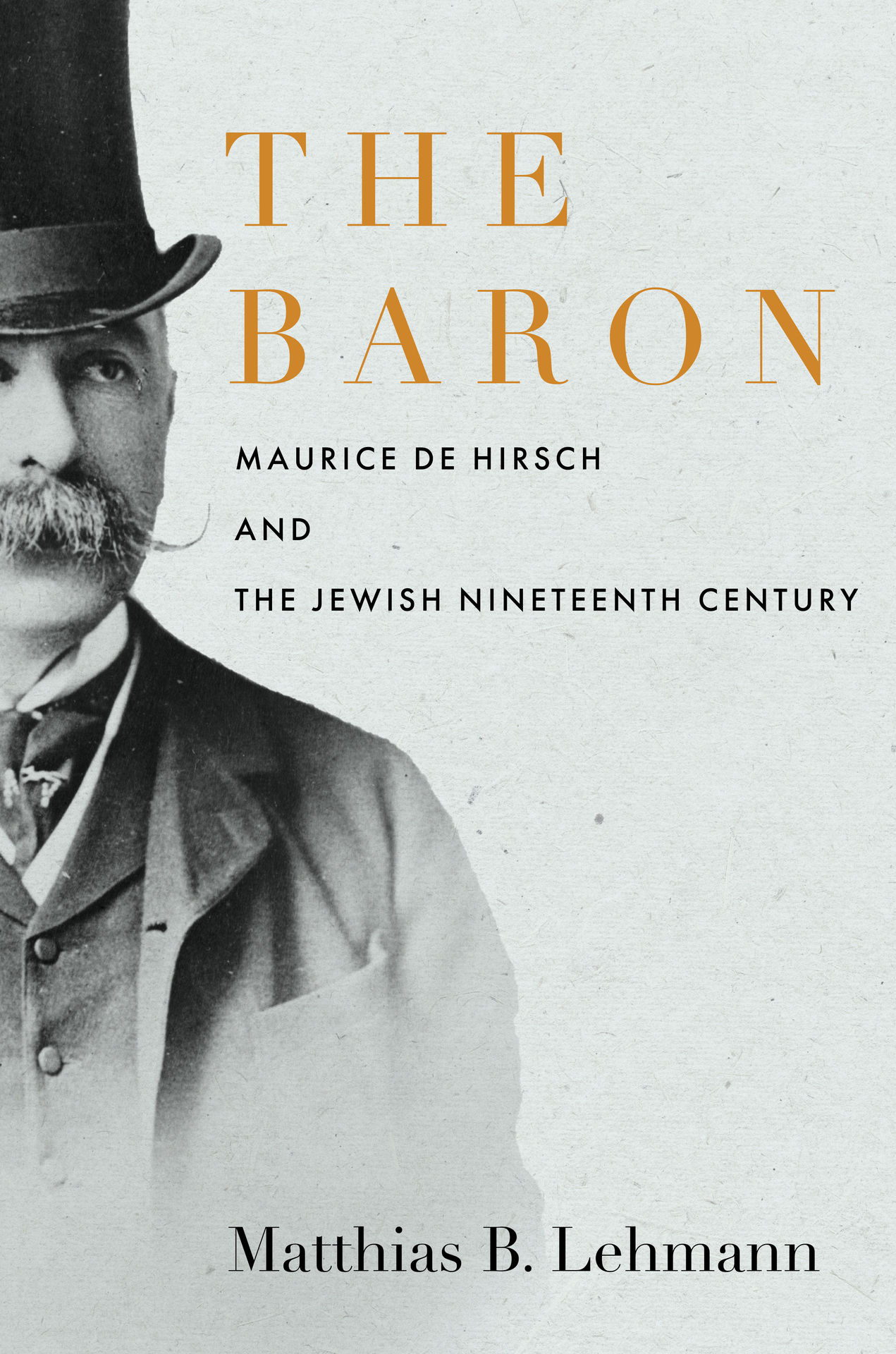
Matthias B. Lehmann
The Baron: Maurice de Hirsch and the Jewish Nineteenth Century
Stanford University Press, 400 p.
«От Моше до Моше не было никого подобного Моше». Много веков эта пословица описывала исторический период от библейского Моше до средневекового Моше, то есть Моше бен Маймона — Маймонида. В конце XVIII века список этих несравненных Моше дополнили Мендельсоном , а в следующем столетии появились великие филантропы Монтефиоре и барон Морис де Гирш. Что говорит нам о еврейском 19 веке тот факт, что фразу, которая изначально восславляла пророка, получившего Тору, и философа‑правоведа, заново осмыслившего ее, переиначили, чтобы похвалить английского джентльмена и баварского аристократа‑космополита? Это стержневой вопрос впечатляющего исследования Маттиаса Б. Лемана о жизни последнего в ряду этих Моше — Мориса (Моше) де Гирша (1831–1896).
Родословная Гирша уходит корнями в «старый порядок». Его мать Каролина вела свое происхождение от рабби Самсона Вертхаймера, знаменитого венского придворного еврея . Напротив, Гирши были относительными нуворишами. Дед Мориса, Якоб, начинал с торговли скотом, и только затем переключился на масштабные финансовые операции. Леман пересказывает известный исторический анекдот: баварский король подивился этой смене поприща, а Гирш‑старший ответил, что совершил ее с легкостью, поскольку «торговал скотом, но со скотами». Короля этот ответ, судя по всему, позабавил. В 1818 году Якобу даже пожаловали дворянское звание. Но человеку, отныне именовавшему себя «фон Гирш ауф Геройт » потребовалось еще два десятка лет, чтобы добиться прав, положенных дворянину‑землевладельцу, а его потомкам — еще пятьдесят лет, чтобы получить наследуемый титул.
В качестве еврея, унаследовавшего притязания на дворянский статус, молодой Морис балансировал меж двух миров. Хотя Людвиг I устроил для его дяди, соблюдающего еврея, кошерный банкет в королевском дворце Ашаффенбург, но Judenedikt 1813 года по‑прежнему ограничивал возможности семейства в частной жизни и профессиональной деятельности, так что родители отправили Мориса учиться за границу. Они выбрали Бельгию, где шла стремительная индустриализация: это было государство, порожденное либеральной революцией и олицетворявшее широкие политические и экономические перспективы. И, вдобавок, страна, где семейства немецких еврейских банкиров могли меньше зависеть от благосклонности правителей.
В 1855 году Морис женился на девушке, представлявшей одну из ведущих еврейских банковских династий в Европе. Клара Бишоффшайм была старшим секретарем своего отца, а теперь стала выполнять эти обязанности для мужа, чья звезда ярко воссияла в бельгийских финансовых кругах. Начал Гирш с работы в банке «Бишоффсхайм‑и‑Гольдшмидт», но вскоре основал собственное дело в партнерстве с братом Клары. Не прошло и десяти лет, как он стал инвестировать в железные дороги и вести переговоры с Бисмарком.
Как ни странно, Гирш периодически поддерживал деловые отношения и с печально известным антисемитом. Его партнер, финансист Андре Лангран‑Дюмонсо — тот самый ныне забытый бельгиец, предпринявший крайне неудачную попытку выстроить католическую «финансовую империю», чтобы противостоять «финансовой мощи евреев». Обе стороны подходили к этим взаимоотношениям цинично, но только Гирш пережил крах предприятия без потерь. (Кстати, этой историей навеян один из лучших романов Эмиля Золя «Деньги».) В 1869 году, когда Лангран‑Дюмонсо находился под следствием по обвинению в мошенничестве и вымогательстве, барон де Гирш (как он звался теперь) подписал соглашение о строительстве первой в Османской империи железной дороги, протяженностью две тысячи километров. Концессии на прокладку путей, которые должны были связать Константинополь и Салоники с сетью железных дорог в Центральной Европе, первоначально добился его бывший деловой партнер. Этот контракт сделал Гирша одним из богатейших людей планеты.
В январе 1871 года в столице Османской империи огромные толпы собрались посмотреть на отправление первого поезда Гирша. «Зарезали пять овец, их кровью обрызгали рельсы», а «высший по рангу в империи мусульманский священнослужитель <…> вознес молитву». Барон, преисполнившись гордости, ожидал на другом конце железнодорожной линии, чтобы приветствовать главу правительства Османской империи и представить ему железнодорожных служащих.
Этот триумф отнюдь не был предрешен. В европейских финансовых кругах Гирш все еще был относительно неизвестной величиной. Такие представители истеблишмента, как венские Ротшильды, отказались с ним сотрудничать (возможно, сочтя, что его транспортная артерия несет угрозу их собственным железнодорожным проектам, или заключив, что увязшая в долгах Османская империя — ненадежный партнер). Ничуть не опешив, Гирш учредил свою турецкую железнодорожную компанию со штаб‑квартирой в Париже и разместил одновременно на двадцати восьми разных фондовых биржах без малого два миллиона облигаций Османской железной дороги.
Сначала он рьяно рекламировал облигации среди мелких инвесторов, а затем предложил так называемые «лотерейные облигации»: раз в два месяца случайным образом выбирали нескольких облигационеров, чьи облигации погашали полностью, а вдобавок давали шанс выиграть более крупный приз; все это освещалось с большой помпой. В Великобритании и Франции такая форма «азартных игр с инвестициями» была вне закона. Возможно, ее запретили бы и в Австрии, если бы министр финансов, лично знавший отца Гирша, не узрел стратегические преимущества нового транспортного сообщения с Константинополем. Государство Габсбургов, оставшееся за бортом бисмарковской Германии и не имевшее своей колониальной империи, теперь присматривалось к Балканам, чтобы утолить жажду новых территорий и выполнить свою историческую, цивилизаторскую (какой она виделась) миссию.
Для Османской империи эти железные дороги были инструментом нескончаемых и отчаянных попыток выдержать конкуренцию с христианской Европой и сохранить власть над балканскими провинциями, вечно норовившими ускользнуть из турецких рук.
В 1873 году, когда Константинополь праздновал ввод в строй еще 560 километров железнодорожных путей, гвоздем программы стал новый поезд султана. Его первоначальным заказчиком был Наполеон III. Поезд, «роскошно отделанный шелком и дамастом», включал в себя уникальный «вагон‑гарем» для султанских жен. Локомотив, «покрашенный в красный и белый, украшали гирлянды <…> из флажков с османским полумесяцем».

За кулисами этих зрелищ отношения Гирша с заказчиками были не столь гармоничны. Поступали жалобы на то, что работа выполнена спустя рукава, а также на «изящные извивы, измышленные бароном Гиршем, чтобы выгадать добавочные километры». Хуже того, османское правительство заподозрило, что проект Гирша — своего рода «троянский конь», тайно продвигающий германские интересы. Правда, другие считали, что связи Гирша свидетельствуют о его компетентности. На взгляд двух немецких экспертов‑инженеров, которых Гирш нанял, чтобы оспорить негативное заключение правительства, «немецкое усердие, немецкая надежность и немецкая осмотрительность гарантировали успех проекта». Но османы твердили, что на работу следовало нанять в основном турок. Мол, нельзя утверждать, что Гирш выполнил обязательства перед султаном посредством того, что просто нарисовал на своих поездах полумесяцы.
Для Османской империи 1870‑е годы были катастрофическими. В этот период государство многократно объявляло дефолт по своим долгам, не сумело подавить серию восстаний на Балканах, бестолково заигрывало с конституционным либерализмом, а также вступило в крайне неудачную войну, которая закончилась для него потерями огромных территорий в Европе. Дорогостоящие железные дороги, изначально задуманные для укрепления османского могущества, теперь выглядели плацдармом для иностранной агрессии.
В 1878 году Берлинский Конгресс одобрил оккупацию Боснии и Герцеговины Австрией. В том же году Гирш перенес штаб‑квартиру своей компании из Парижа в Вену. Здесь никто не видел в Гирше законного проводника австрийских интересов; напротив, казалось, что это типичный своекорыстный еврей.
В 1890 году, вспоминая пик экономического влияния Австрии на Балканах, газета «Дойчес фольсблатт» оплакивала эпоху, оборванную Крымской войной, — времена, когда «Вена была важнейшей факторией и важнейшим посредником между Западом и Востоком: средний класс <…> процветал, жил с комфортом, а наемные работники хорошо зарабатывали на пропитание». Но австрийская мечта о железнодорожном сообщении Вены с Константинополем и Салониками слишком долго шла к своему воплощению. Гирш едва ли виноват в том, что османы охладели к этой затее. И все же неблагосклонным наблюдателям казалось, что он соблазнил австрийцев своими турецкими лотерейными облигациями, а вот прибыльные рынки Османской империи преподнес британцам. Венский средний класс обнищал, утверждали эти люди, меж тем как Гирш и его еврейские «партнеры по коррупции» стали миллионерами.
В других странах они продвигали другие версии. В глазах активиста‑пангерманиста Пауля Дена Гирш был представителем «безжалостного, хищнического, ростовщического капитализма», предавшего германскую Центральную Европу. Короче, евреем.
Тем временем во Франции публицист Август Ширак, социалист‑антисемит, не преминул возложить на «еврея, зовущегося барон де Гирш», симптоматично (но ошибочно) назвав его «пруссаком», вину за «постоянные нелады на Балканах», которые «обогащали евреев», но обрекали христианское население региона на мытарства.
Тот факт, что Гирш, еврей баварского происхождения, сколотивший состояние в Бельгии, занимал центральное место в антисемитской риторике в трех из пяти великих держав, много говорит об обстановке в Европе, где протекала его деятельность, а также о роли империализма в зарождении современного политического антисемитизма. Ибо, как подчеркивает Леман, «именно в империи Габсбургов — государстве, которое ни в коей мере не было национальным — а затем в Германии антисемитские нападки на барона Гирша облекались в форму обвинений в предательстве — предательстве не столько страны, сколько имперского предназначения страны».
Империализм самого Гирша был — как и его жизнь — одновременно космополитическим и панъевропейским. Он и его жена принадлежали к транснациональному семейству, но большинство их родственников придерживались конкретных национальных идентичностей: отец Клары — бельгийской, сестра Гирша Амалия Бамбергер, ее муж Анри, уроженец Германии, и их дети — французской, а братья Анри Бамбергера Рудольф и Людвиг — немецкой. Однако Гирши вели поистине интернациональный образ жизни, переезжая по железной дороге из страны в страну по деловым соображениям, а также в погоне за развлечениями и новыми знакомствами в высших кругах. В этом они ничем не отличались от сословия, в которое стремились влиться, — от международной аристократии (влиться в буржуазию какой бы то ни было страны они никогда не стремились).
Однако в то же время Морис отчетливо ощущал себя евреем. Это стало заметнее после неожиданной кончины единственного отпрыска Гирша, его сына Люсьена, умершего холостым в 1887 году. Раньше Гирш занимался благотворительностью от случая к случаю, теперь же она стала делом его жизни. Рассказывают, что барон де Гирш заявил: «Я потерял сына, но не наследника, мой наследник — человечество».
Здесь мы видим, пожалуй, самую поразительную параллель между Гиршем и сэром Мозесом Монтефиоре, которого часто называют «четвертым Моше». Для обоих решение забросить неустанную погоню за богатством и сделать своим новым поприщем благотворительность совпало с осознанием того, что они умрут бездетными. Этим их сходство не исчерпывается. Оба избрали сознательно трансконфессиональный подход к пожертвованиям.
Первопроходцами этого стиля в еврейской политике в 1860‑х стали Монтефиоре и его французский современник Адольф Кремьё, которого в наше время помнят преимущественно как лидера Альянса (Всемирного еврейского союза) .
Например, в 1876 году барон поручил Эммануэлю Венециани, одному из ведущих членов Альянса, организовать гуманитарную помощь жертвам войны на Балканах вне зависимости от их вероисповедания или гражданства. Отчитываясь перед Парижем, Венециани подчеркивал преимущества этого инклюзивного подхода, «возвеличившего имя исраэлитов и придавшего ему обновленное великолепие». Это теоретическое беспристрастие на практике часто вытеснялось естественным для Венециани «чувством пристрастия» в отношении еврейских беженцев, но, разумеется, то же самое происходило среди христиан, оказывавших гуманитарную помощь.
В любом случае, отношение к иудаизму, стоявшее за поступками Гирша, выделяло его из ряда других еврейских лидеров XIX века. Монтефиоре был благочестивым евреем и принадлежал к числу «любящих Сион» , Кремьё, секулярист и французский националист, верил в монотеистическую миссию евреев ради всего человечества. Со своей стороны, Гирш был абсолютно оторван от иудаизма и ни разу не пожертвовал ни гроша на еврейские религиозные учреждения или синагоги. Один из его личных секретарей хорошо обрисовал ситуацию, процитировав слова самого Гирша: «Пусть другие пекутся о душе, если они к этому склонны, но я займусь телом».
В интервью «Нью‑Йорк геральд» в 1889 году Гирш четко обосновал такой подход, заявив без утайки: «Я заклятый враг фанатизма, нетерпимости и теологии для замкнутого круга. Еврейский вопрос может быть решен только путем исчезновения еврейской расы, которое неизбежно произойдет путем смешения христиан и евреев».
Этот подход проявился даже в его собственной семье. Пока Люсьен был жив, Гирш охотно лелеял планы женить его на представительнице какой‑нибудь христианской ветви британской аристократии. А после смерти сына Морис и Клара усыновили троих детей — Лили, внебрачную дочь Люсьена, и двух мальчиков, отцом которых, вероятно, тоже был Люсьен. Морис и Клара никогда не стремились дать никому из этих детей еврейское воспитание, хотя, видимо, предпочитали протестантизм католицизму.

Первые благотворительные проекты Гирша были направлены на османский мир, столь важный для его деловых интересов. В 1873 году он и Клара пожертвовали огромную сумму — миллион франков — на поддержку образовательной деятельности Альянса в Османской империи и Северной Африке (это начинание было продиктовано восприятием Востока как отсталого региона, а одной из его движущих сил был французский культурный империализм).
Гирш определенно верил в европейскую цивилизацию. И тем не менее со временем начал сожалеть о том, что Альянс считал первостепенным изучение французской культуры, а не профессионально‑техническое обучение. «Каждый день я вижу юношей 16‑20 лет, очень хорошо говорящих по‑французски, которые подходят ко мне на улице и просят устроить на работу, — сообщал он в 1888 году в письме из Константинополя, — и очень многие из них жалеют, что вместо познаний в иностранных языках не выучились какому‑нибудь ручному труду, который дал бы им пропитание».
Возможно, эти впечатления надоумили Гирша на его следующее масштабное начинание: образовательный фонд с капиталом в 12 миллионов франков, работавший в еврейской глубинке в Галиции и Буковине. Фонд сосредоточился на профессионально‑техническом образовании с отличительно «хиршевской» — межконфессиональной — повесткой. Как неоднократно подчеркивал барон, все его гуманитарные усилия предпринимались с целью «побороть сепаратистские течения и тенденции среди моих единоверцев и подготовить почву для их ассимиляции с их согражданами‑христианами» посредством воспитания «энергичного и физически здорового поколения израэлитов в Галиции и Буковине».
Межконфессиональные школы наподобие этих были радикальным проектом: им сопротивлялись как в высших эшелонах власти габсбургского государства (в основном по бюрократическим соображениям), так и в ортодоксальных еврейских кругах.
«По некоторым утверждениям, один хасидский ребе, — сообщает Леман, — решил сорваться с насиженных мест и переселить всю общину своих последователей в другой город, столкнувшись с перспективой открытия одной из школ Гирша».
Подобное сопротивление было недостаточно мощным, чтобы сорвать проект, но Леман, увы, не докапывается, насколько эффективным оно было и как широко было распространено.
В любом случае для Гирша эти школы стали лишь частью масштабной стратегии. В 1888 году он начал параллельно готовить почву для астрономического — 50 миллионов франков! — пожертвования на поддержку в России сходной образовательной инициативы, «способствующей общественному слиянию, которое спустя несколько поколений может привести к религиозному слиянию». Это был чересчур далеко идущий шаг в глазах российских властей, считавших само собой разумеющимся, что евреи и христиане — разные и должны учиться раздельно; утопический план Гирша, направленный на радикальную ассимиляцию в России, сорвался.
Спустя два года суровые реалии еврейской жизни в России побудили Гирша пересмотреть прогнозы на европейское будущее евреев. Он учел рьяно муссировавшиеся тогда слухи о том, что правительство империи намерено ужесточить гонения. В 1891 году, когда власти приступили к высылке тысяч евреев из Москвы, Гирш объявил, что настал момент раз и навсегда урегулировать еврейский вопрос. С этой целью он создал Еврейское колонизационное общество. Оно должно было стать крупнейшей в еврейском мире благотворительной организацией. Как справедливо отмечает Леман, «над этой главой в истории еврейской филантропии XIX века маячила гигантская тень европейского колониализма». Гирш ни в коей мере не был сионистом, но все равно обдумывал идею купить «целую страну, которая отвечала бы всем желательным критериям и в которой колонисты стали бы неоспоримыми владельцами». Он остановил выбор на Аргентине.
Вначале ему виделся «большой проект», и к началу ХХ века Аргентина, благодаря его щедротам, действительно стала для еврейских переселенцев одним из самых популярных пунктов назначения — уступавшим по популярности США и Великобритании, но выглядевшим гораздо заманчивее Палестины. Однако итоговые цифры оказались мизерными: на 1896‑й год, когда Гирш скончался, на 910 аргентинских фермах жили всего 6757 евреев.
Что же в таком случае значил Гирш для еврейского 19 века, упомянутого Леманом в подзаголовке его книги? Для Теодора Герцля (в 1895 году, как известно, Гирш с ним схлестнулся) Гирш олицетворял старый мир. «Занятный день, — записал Герцль в дневнике, узнав о неожиданной смерти барона. — Гирш умирает, а я налаживаю связи с князьями… В делах евреев начинается целый новый том». Леман мыслит тонко, но, в сущности, не расходится с этой оценкой. Тем не менее, он старается довести до нашего сведения: «Еврейская благотворительность была не только частной инициативой, дополнявшей действия государства, но и все активнее брала на себя роль государства — пожалуй, действовала на манер государства — чтобы изменить будущее евреев». Этот вывод, опирающийся на работы Жаклин Граник и других исследователей, помогает объяснить, почему в 19 веке евреи начали видеть в богачах типа Гирша и Монтефиоре образец еврейского лидерства. «От Моше до Моше не было никого подобного Моше».
Правда, Леман не рассматривает, каким образом и по каким причинам этот подход к лидерству оказался далеко не столь эффективным, как Альянс, сделавший ставку (как и сионистское движение впоследствии) на коллективные действия. Упущение странное, ведь в целом Леман изображает Гирша как озадачивающе бессильную фигуру, влекомую волнами истории, а повелевают этими волнами не великие люди, но триада абстрактных существительных — капитализм, национализм и империализм.
Безусловно, сам Гирш никогда не смотрел на свою жизнь такими глазами (а для биографа взгляд несколько нестандартный). Очевидно, Гирш считал железные дороги Османской империи не только лишь детищем широкомасштабных экономических и политических сил, а своим личным достижением. Наверняка он мыслил свою благотворительную деятельность не просто как попытку «повлиять на репутацию евреев и сделать ее лучше». Как‑никак, у самого Гирша репутация была не блестящая, и если учесть пристальное внимание к нему в антисемитских конспирологических теориях про евреев, весьма примечательно, что он, видимо, смотрел на еврейский вопрос совсем в ином ракурсе, чем эти недоброжелатели, — и пропускал мимо ушей все ядовитые нападки на себя в Вене, Париже и прочих городах, где обосновывался.
Эти парадоксы остаются по большей части неизученными в биографическом исследовании, которое изобилует блестящими и поразительными мыслями, но, в конечном счете, интересуется не столько бароном — этим потенциально пятым Моше — сколько еврейским 19‑м веком.
Оригинальная публикация: The (Railroad) Baron
Комментариев нет:
Отправить комментарий