Угон самолета
Материал любезно предоставлен Tablet
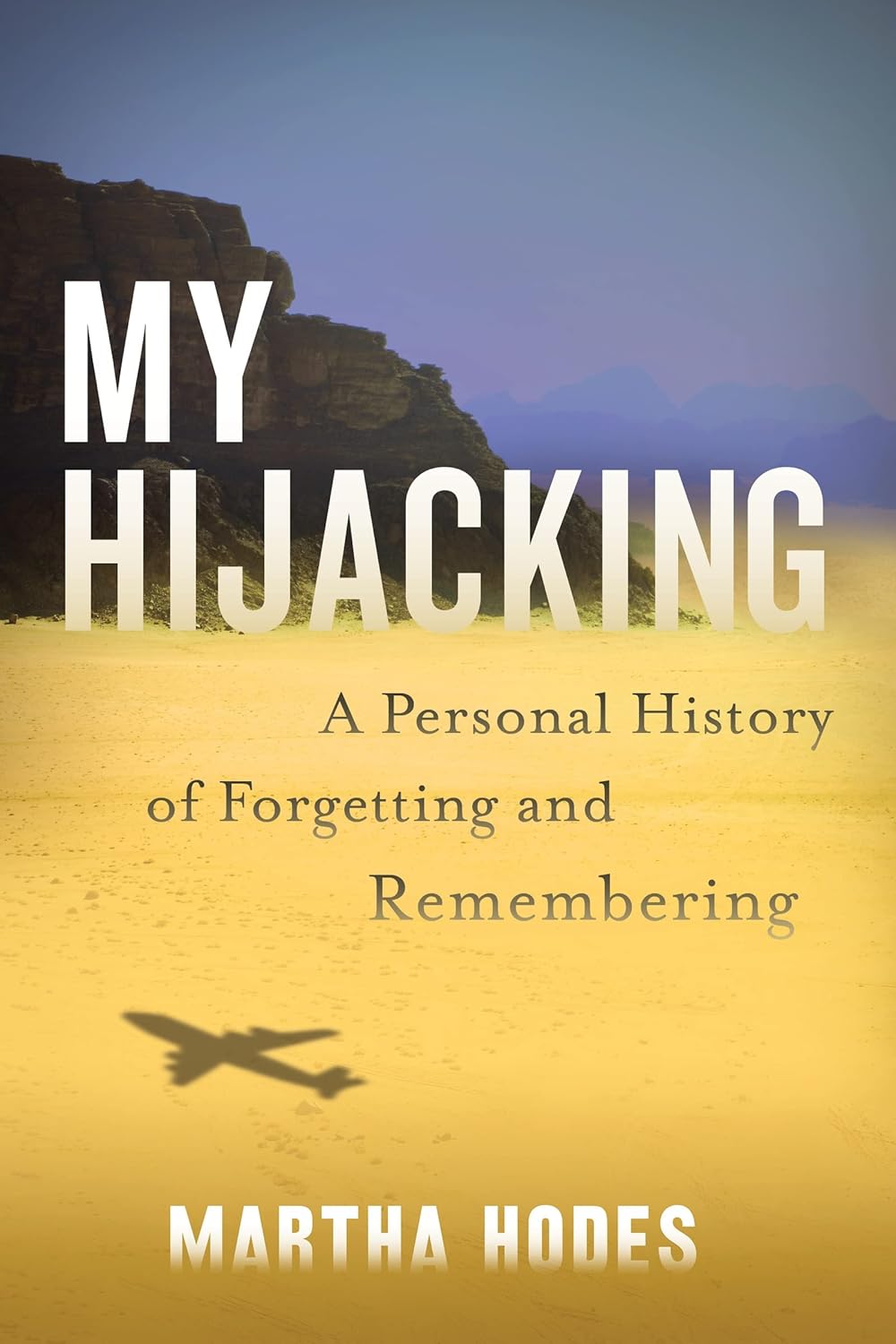
Martha Hodes
My Hijacking: A Personal History of Forgetting and Remembering
[Как угнали мой самолет: личная история памяти и забвения]
Harper, 2023. — 384 с.
Впервых числах сентября 1970 года — в Нью‑Йорке как раз должен был начаться учебный год — 12‑летняя Марта Хоудс с 14‑летней сестрой Кэтрин взошли на борт самолета авиакомпании TWA, выполнявшего рейс по маршруту Тель‑Авив‑Нью‑Йорк с пересадками в Афинах и Франкфурте. Они провели лето в Израиле и теперь вместе с мамой, примой труппы Марты Грэм , возвращались в Америку. Заботился о девочках главным образом их отец (тоже солист труппы Грэм) — причем и до развода. После вылета из Франкфурта самолет захватили два боевика Народного фронта освобождения Палестины и перенаправили на временный военный аэродром в иорданской пустыне. Там девочки вместе с большинством пассажиров и членов экипажа провели шесть дней в заложниках на борту воздушного судна.

Вскоре к сестрам Хоудс и их товарищам по несчастью присоединились пассажиры и члены экипажа двух других захваченных самолетов; четвертый самолет направили в Бейрут, а угнать борт компании El Al у террористов не вышло: израильский пилот и экипаж среагировали оперативно. Пять угонов, пожалуй, по сей день остаются самым сложным и дерзким актом скоординированного воздушного пиратства в истории терроризма, особенно если учесть дополнительную логистику, потребовавшуюся для этого, поскольку считалось, что жизнь пассажиров чего‑то да стоит. Часть заложников, в том числе сестер Хоудс, в конце концов выпустили в гостиницах в Аммане, прочих же — в основном мужчин, годного к военной службе возраста, членов экипажа и нескольких израильтянок, тоже годного к военной службе возраста, — рассредоточили по лагерям для беженцев и конспиративным квартирам в городах Иордании, находящимся под контролем НФОП.
О захвате самолетов много писали в СМИ, впоследствии вышла книга Давида Рааба, тоже бывшего заложника, ему на момент угона было 17 лет, он летел с матерью и младшими сестрами. Рааба разделили с семьей, он оказался в группе заложников, которую освободили потому лишь, что иорданской армии удалось одержать победу над боевиками в ходе вооруженного конфликта (в Палестине его называют «Черный сентябрь»). Слова Кэтрин Хоудс стали «цитатой дня» в номере газеты The New York Times от 13 сентября 1970 года: «А теперь я поблагодарю Бога и приму ванну». С сестрами Хоудс также побеседовала социолог, которую вместе с ними держали в заложницах, она опубликовала результаты под заголовком «Индивидуальная и групповая реакция на заточение в угнанном самолете» (“Individual and Group Responses to Confinement on a Skyjacked Plane”).
Марта — ныне она ведущий специалист по истории Гражданской войны в Америке, а также межрасового секса и браков в США в XIX веке — недавно выпустила книгу о пережитом: «Как угнали мой самолет: личная история памяти и забвения» (My Hijacking: A Personal History of Forgetting and Remembering). Изложить события прошлого ее побудило не стремление исчерпывающе описать один эпизод израильско‑палестинского конфликта, да ей не так уж и интересно рассказывать обо всем столько лет спустя с точки зрения человека, пережившего травмирующее событие. Книга Хоудс разительно отличается от большинства подобных историй и мемуаров. Автор стремится ответить на собственные вопросы: «Почему я так мало помню? Почему мне кажется, будто меня там даже не было?», и особенно «Почему я не помню, было ли мне страшно?» Книга — своего рода отчет, рассказ о расследовании, открытиях, пересмотре взглядов, равно как и попытка — в духе «Расёмона» — с разных точек зрения взглянуть на угон и его политический контекст. Притяжательное местоимение в заглавии книги готовит читателя к исключительно субъективной подаче материала, вдобавок из‑за него книга Хоудс несколько смахивает на сочинение 12‑летней школьницы «Как я провела лето», а такое сочинение Хоудс, когда она наконец начала занятия в седьмом классе, не смогла заставить себя написать.
Хоудс сравнивает свои воспоминания со свидетельствами и рассказами других жертв похищения, записями из архивов TWA и Госдепартамента США, видеопленкой из архива ЦРУ, документальными свидетельствами из воспоминаний членов НФОП; она даже обращается к дневнику, который вела тогда, и двум интервью — они с сестрой дали их после освобождения, одно, по отдельности, Сильвии Джейкобсон, социологу, другое, втроем с отцом, своему родственнику, репортеру бостонской газеты Phoenix.
Хоудс обнаруживает, что на рассказы той 12‑летней девочки, которой она была когда‑то, полагаться ни в коем случае нельзя — не потому что она недостоверно описывает, что пережила тогда, а потому что она готова поделиться далеко не всем, что пережила и перечувствовала. Хоудс признается, что ее вдохновляла Анна Франк (они даже родились в один день, только в разные годы), и прилежно ведет дневник, но впоследствии ловит себя на том, что она тоже редактирует свой дневник: так, Хоудс вычеркнула предложение о том, как стюардесса утешала ее плачущую старшую сестру, или оставляет без внимания события вроде того тревожного эпизода, когда ее и прочих пассажиров‑евреев вывели из самолета, согнали в кучу, держали на мушке бог знает сколько, и пассажиры боялись, что сейчас их всех расстреляют. «Страшнее всего мне было, когда…», — пишет она в конце одной страницы и обнаруживает, что либо не записала случившееся, либо записала, но страницу с этим рассказом, в отличие от прочих, «потеряла то ли в самолете, то ли уже по пути домой». Хоудс пишет: «Я понимаю, что начинающий автор во мне дал не полный отчет о событиях, но передал с пятого на десятое историю выносимую, не правдивую, а такую, которую можно рассказать дома, особенно папе… Мой рассказ об угоне строится на умолчаниях, и они останутся со мною на долгие‑долгие годы».
Но порой 12‑летняя Марта замечает и помнит такое, о чем остальные заложники стремятся забыть. Самое яркое воспоминание — вслед за теоретиками травмы она зовет его «воспоминанием‑вспышкой» — то, как угонщик вывел из кабины второго пилота, приставив к его шее пистолет. В официальных показаниях ни второго пилота, ни пассажиров она этот эпизод не нашла, подумала было, уж не выдумала ли она его, и лишь впоследствии из интервью со вторым пилотом узнала, что тому действительно приспичило по большому и один из угонщиков повел его под дулом пистолета в туалет; в официальном отчете второй пилот об этом упомянуть не удосужился.
Результатом этих скрупулезных упражнений в сравнительных воспоминаниях стала книга, которая, по сути, бросает вызов представлениям большинства читателей (а также издателей и литературных агентов) о том, как устроены мемуары (и память), равно как и первоисточники, которыми пользуются профессиональные историки. Архив важен, но обманчив. Хоудс как историк напоминает нам о том, о чем всегда «умоляет» подумать своих студентов: «Почему этот человек именно так рассказал о случившемся?» Ответы ее (по крайней мере, в данном случае) относятся скорее к психологии, чем к истории, и, пожалуй, теснее связаны с историей ее семьи, вращавшейся вокруг процесса развода родителей, стремлением одаренного ребенка пощадить чувства родителя, который о ней заботится, и нежеланием задумываться о том, чем для них обернулось отсутствие матери.
Получается, история — то, что можно разглядеть сквозь жалюзи семьи. По мере развития повествования притяжательное местоимение из названия книги обретает смысл все более мрачный и неоднозначный: оно намекает, что Хоудс почти полвека удерживала в заложниках свои чувства и воспоминания.
В тех условиях, которые обозначила для себя Хоудс, «Как угнали мой самолет» — отважный и важный акт самоизучения, метаавтобиография и вместе с тем образец чуткой историографии. Но самыми интересными и живыми в книге вышли те эпизоды, когда текст избавляется от авторского стремления — уже в зрелом возрасте, задним числом — контролировать нарратив. Иными словами, книгу «Как угнали мой самолет» стоит читать вопреки тому, как она была задумана.

Хоудс, хоть такой целью она и не задавалась, предлагает нам глубинный срез момента в истории жестокости, рассказ о той поре, когда массовый терроризм был не настолько жестоким и авиапутешествия давались легче. Кресла в самолетах были просторнее, в них действительно можно было спать несколько ночей, особенно если «Красный крест» снабжал успокоительными. Роскошно отпечатанные журналы с рекламой кукол и цветными фотографиями разных стран помогали девочкам отвлечься, даже когда на борту отключили электричество. Женщина‑боевик НФОП, сев за штурвал самолета, объявила: «Будьте добры, пристегните привязные ремни, говорит новый капитан вашего корабля, мы везем вас в дружественную страну с дружелюбным населением».
Эти «коммандос», как называет их Хоудс (не «террористы», это был бы анахронизм), раздавали пассажирам свежую питу, фалафель и пропагандистскую литературу, труды основателя НФОП Жоржа Хабаша. Хоудс приводит разговоры между похитителями и похищенными, в том числе и ответ 10‑летнего Йосефа Трахтмана на вопрос палестинского фидаина , согласен ли мальчик с тем, что люди должны сражаться за свою страну: «Да, если это их страна». Любимое воспоминание Хоудс — как «коммандос» у самолета прыгали с детьми через скакалку. Два года спустя в Мюнхене оскопили израильских спортсменов.
Многие из тех заложников, кого отпустили первыми, отзывались о захватчиках доброжелательно — то ли из тактических соображений (не хотели подвергать опасности оставшихся), то ли из побуждений не столь возвышенных, а потому лишь, что с ними действительно обращались сносно. Некая женщина на вопрос репортера о пережитом ответила, что все прошло «просто чудесно». Одна из стюардесс прикрепила на лацкан значок НФОП. Пассажиры‑евреи были настроены менее оптимистично, но даже Кэтрин, сестра Хоудс, признала в интервью бостонской газете Phoenix, где работал их родственник: «Потребность любого народа вернуть себе свой дом оправданна» и «Когда этих людей выгоняли из их домов, наделали много ошибок».

В подобных фрагментах «Как угнали мой самолет» превращается в примечательную характеристику идентичности ассимилированных евреев в послевоенной Америке. Правда, эта история рассказана между делом, разбросана по главам. Семьи родителей Хоудс не были религиозны и утратили связи с Европой. Они знали о Шоа — Хоудс на протяжении всей книги называет Катастрофу «Холокостом» — но лично их она не коснулась. По мере развития повествования становится ясно, что среди заложников оказались и бывшие узники концлагерей. Однако — когда Хоудс наконец рассказывает о «самом страшном» — этот важный опыт почти убийственной дискриминации (ее сестра верила, что их всех застрелят) в конечном счете не влияет на ретроспективную попытку Хоудс предоставить слово всем сторонам в равной степени. Есть ли что‑то более американское? Или, точнее, более свойственное евреям в послевоенной Америке?
«Мы ездили в Израиль, жили в Израиле, привязались к нему по причинам иным, нежели [другие заложники‑евреи]», — пишет Хоудс в один из тех редких моментов, когда рассуждает о своем еврействе. — «Мы, как умели, старались перемешивать историю, которую узнали только что, с той историей, которая уже была нам известна, перемешивать боль наших захватчиков с собственным страхом и страхами других заложников».
Уже будучи взрослой, Хоудс разыскала тех заложников, которые во время угона были юношами и девушками призывного возраста (палестинцы еще месяц держали их на различных конспиративных квартирах в Аммане и Ирбиде), и те, кто читают сноски, заметят, что чаще всего Хоудс беседовала с со своими бывшими товарищами по несчастью у них дома, в Израиле. То есть они, видимо, совершили алию, хотя Хоудс никак это не оговаривает, не спрашивает о том, повлияло ли пережитое в плену у боевиков НФОП на их решение стать израильтянами. Вместо этого она пытается выяснить, дополняют ли их воспоминания ее собственные, разыскивает недостающие фрагменты своей истории, в том числе касающиеся судьбы прочих заложников, заботившихся о Хоудс и ее сестре, пока была такая возможность. Но она не может заставить себя задать тот вопрос, который задал ей Давид Рааб: «Как угон повлиял на вашу дальнейшую жизнь?»
В такие моменты личный императив современного мемуариста берет верх над инстинктами профессионального историка. Хоудс «всю жизнь писала книги, которые помогали отыскать смысл в историях других людей, их страхах и скорби» и наконец разрешила себе «обратиться к собственной истории». И здесь вторгается язык нынешнего исцеления. «Мое путешествие — история сочувствия Кэтрин и той двенадцатилетней девочке, что не может нарушить молчание…»
В таком психологическом повороте нет ничего дурного. Однако следует отметить, что у психологии и психотерапии свои истории. Хоудс ставит перед собою цель раскрыть и исцелить чувство страха, которое она не позволяла себе признать ни тогда, ни потом. Это вполне соответствует установке, что для здоровья куда полезнее переживать и признавать негативные эмоции, чем держать их в себе. Но для чего? Слово «храбрость» в книге не фигурирует, хотя Марта, Кэтрин и другие заложники вели себя очень храбро. Храбрость, конечно, не означает, что им не страшно: они преодолевают страх.
Диалог, который позволит преодолеть ширящуюся пропасть между тем, что пережили евреи как Израиля, так и диаспоры после Холокоста, после травмы, начинается с вопроса о том, как признать свой страх, не теряя храбрости. Страх не кончается с восстановлением уязвимости ради самого факта или с признанием боли и страданий других людей. Не окончится он и с достижением нереальной цели — жить без страха. Будущих историков в книге Хоудс, скорее всего, заинтересует столько же описание, как группа людей, которым невероятно повезло, коллективно уходила от памяти об очень страшном событии, сколько попытка «восстановить правду» о пережитом в детстве, равно как и рассказ о ранних днях угона самолетов.
Оригинальная публикация: The Hijacking
Комментариев нет:
Отправить комментарий