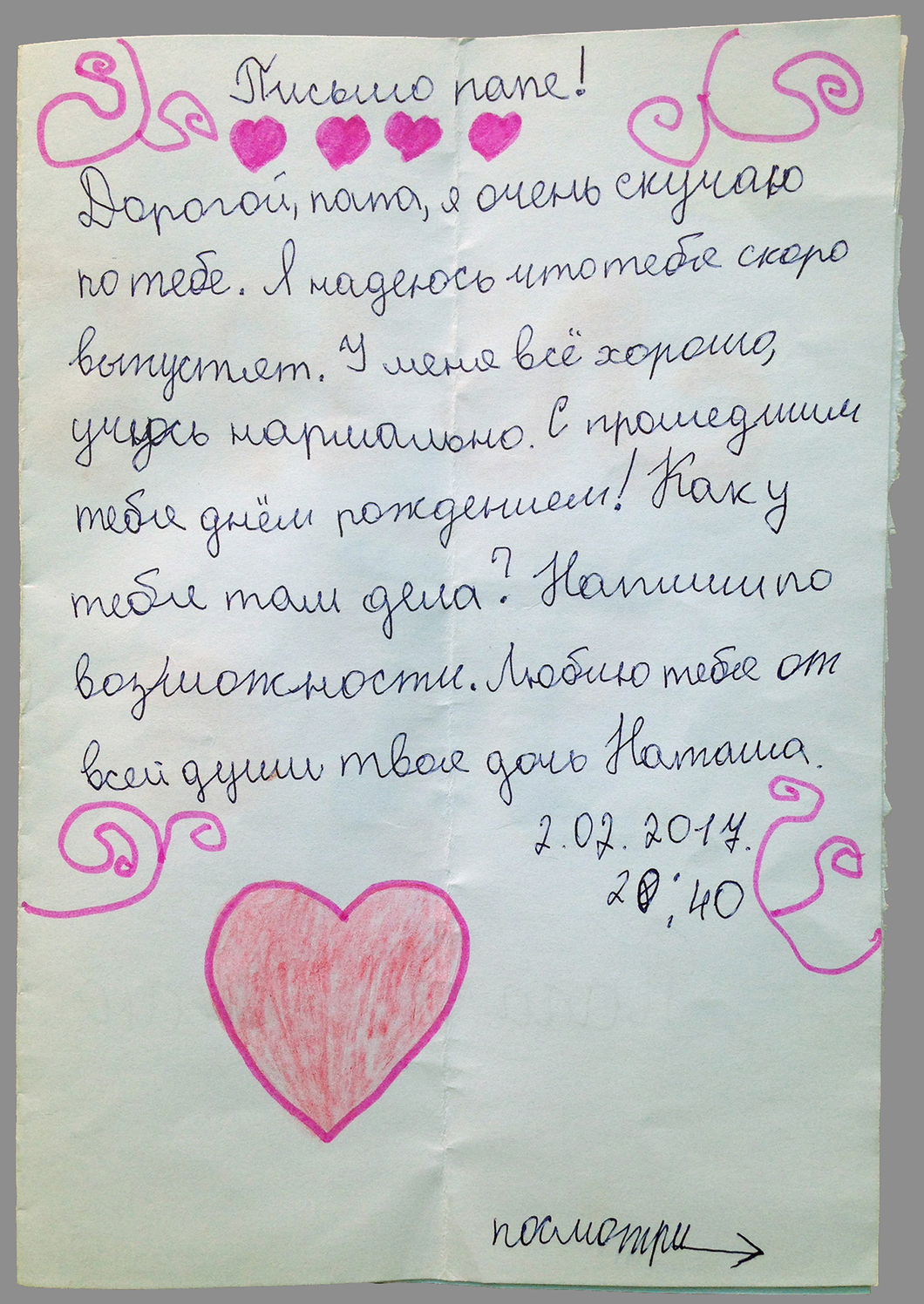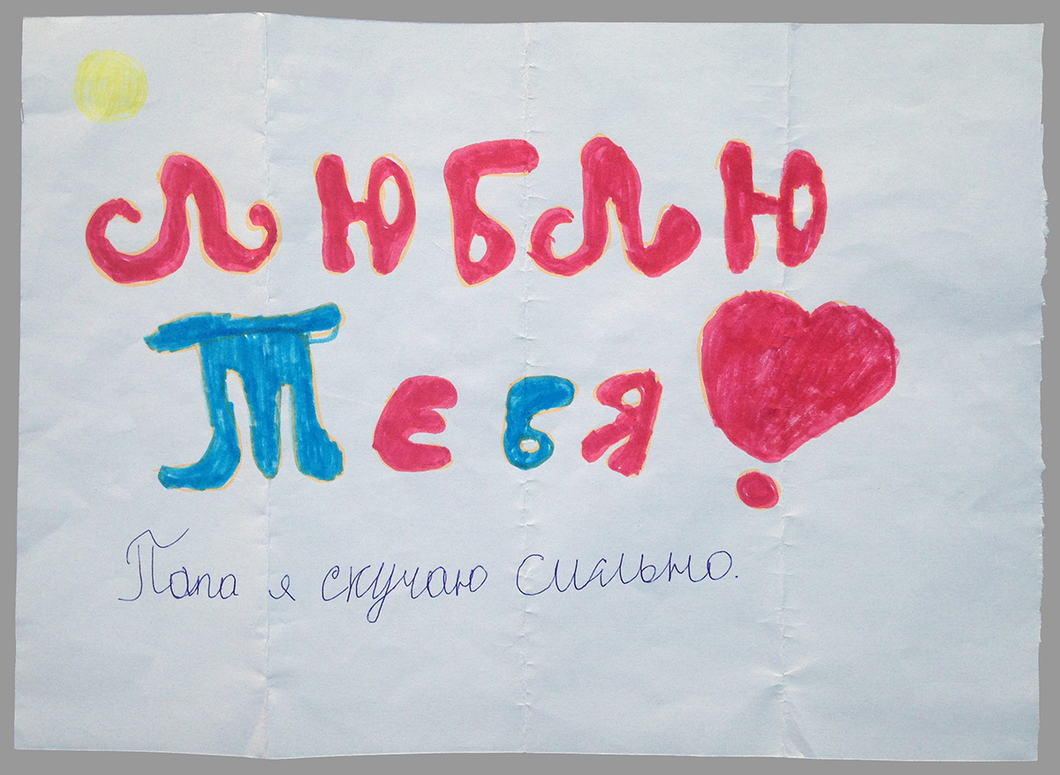ВЛАДИМИР (ЗЕЕВ) ЖАБОТИНСКИЙ
ЕВРЕИ И РОССИЯ
РЕЧЬ К УЧИТЕЛЯМ
Что есть национальное воспитание?
Было время, когда еврейская молодежь не только не рвалась к просвещению так усердно, как теперь. но когда отдельным лицам приходилось напрягать все усилия, чтобы приручить еврейскую массу к просвещению. Эта масса боялась просвещения и выставляла против него фанатический предрассудок преувеличенной самобытности – отчасти религиозной, отчасти национальной. Ясно. что людям, желавшим спасти эту массу от невежества, пришлось напасть на предрассудок. И они это исполнили. Они внушали массе, что надо быть прежде всего человеком, что наука равно хороша для всех, что несть эллина и несть иудея и так далее. Эта проповедь менее, чем и полвека. произвела в еврейской массе коренную перемену, совершила огромный переворот: насколько евреи прежде боялись гуманитарного просвещения, настолько они теперь жаждут его. так что не хватает ни школ. ни учителей, ни пособий: и по распространенности этой жажды знания среди беднейших слоев мы, российские евреи, может быть. являемся первой народностью в мире.
Но теперь эпоха уже настала другая, и другие нужны для нее слова и дороги. Любовь к гуманитарному просвещению уже вызвана раз навсегда и не только не может ослабеть, но будет все распространяться в ширину и глубину среди еврейских масс. Стараясь пробудить эту любовь, просветителям прежней эпохи, конечно, не было никакой нужды настаивать на национальном оттенке воспитания, потому что он сам собой разумелся: ведь тогда только о том пока и можно было мечтать, чтобы внести в слишком узкое национальное и религиозное воспитание гуманитарную струю. Но теперь, когда это достигнуто, и достигнуто блестяще, повторилось то явление, которое всегда сопутствует успеху какой угодно идеи, даже самой полезной, самой благородной: добежав до цели, мы с разбегу пронеслись дальше. Цель была – создать еврея, который, оставаясь евреем, мог бы жить общечеловеческой жизнью: мы теперь сплошь прониклись жаждой культуры, но так же сплошь забыли о том, что надо оставаться евреями. Или, вернее, не забыли (есть веские причины, мешающие забыть), но наполовину перестали быть евреями, потому что перестали дорожить своей еврейской сущностью и начали тяготиться ею: и именно в том, что, с одной стороны, мы не можем забыть о своем еврействе, а с другой – тяготимся им, – и скрыта главная горечь нашего положения; и из этого положения необходимо выйти. Чтобы выйти из него, есть, может быть, разные средства, но только одно из них в наших руках: это средство –сделать так, чтобы мы перестали тяготиться своим еврейством и научились дорожить им.
Таким образом задача еврейского народного просвещения в настоящее время является диаметрально противоположной задаче прежней эпохи. Тогдашним девизом было: «стремитесь к общечеловеческому!»– ибо стремление к национальному (тогда выражались – «религиозному») уже имелось в обилии. Теперешним должно быть: «стремитесь к национальному!», ибо стремление к общечеловеческому уже имеется. В результате оба противоположных девиза ведут к одной цели, как оба радиуса диаметра к одному центру: к созданию еврея-гуманиста. Но, ведя к той же цели, новый девиз, однако, требует коренной перемены, полного перемещения центра тяжести воспитательной системы. Во дни оны центром тяжести еврейского воспитания надо было сделать гуманитарный элемент, чтобы скорей выжить дух нетерпимости и узости; но теперь центром всей системы воспитания еврейской молодежи должен стать национальный элемент, ибо надо выжить дух самопрезрения и возродить дух самосознания.
Вот реформа, необходимая ныне: надо перевернуть душу преподавания, произвести революцию в самом принципе системы.
Нельзя больше так жить, как мы живем: мы жалуемся на то, что нас презирают, а сами себя почти презираем. И это не мудрено, если подумать, что еврей, воспитанный по-нынешнему, знает о еврействе, т.е. о самом себе, только,то, что видит вокруг, то есть картину, не могущую польстить чувству национального достоинства. Если бы ему была известна колоссальная летопись еврейского величия и еврейского скитания, он мог бы почувствовать, сколько благородных сил кроется в этом маленьком и непобедимом племени, и ощутил бы гордость, и приучился бы радоваться при мысли, что он еврей; и тогда все неприятности еврейского существования показались бы ему гораздо легче, потому что терпеть неприятности за нечто любимое гораздо легче, нежели за нечто нена вистное или почти ненавистное. Но еврей, воспитанный по-теперешнему, совершенно не знает величавой перспективы еврейской истории, а знает только сегодняшний момент и свой уголок – Пружаны или Голту,– и ни в этом моменте, ни в этом уголке нет, конечно, ничего величавого, а есть зато много забитого и приниженного. По этому образцу он знакомится с еврейством, и вне этого образца ничего не знает о еврействе; и у него создается очень жалкое и тяжелое представление об этом еврействе, ему неприятно, что он тоже еврей, и иногда, ложась спать, он тайком думает: ах, если бы завтра утром оказалось, что все это был дурной сон, что я – не еврей! Но «завтра» приходит, и он просыпается евреем, и тащит за собой, почти с проклятиями, свое еврейство, как каледонский каторжник ядро. При каждом испытании судьбы он морщится и горько спрашивает: «Да во имя чего же, наконец, все это? Разве я еврей? Что такое еврей? Где-то там во Франции, в Марокко, в Румынии есть люди, которых тоже называют этим именем: разве я им брат? Я даже не знаю, сколько их, как им живется, о чем они мечтают, я не имею о них понятия, – а должен быть евреем…» И его охватывает злоба против этого имени, и он начинает употреблять его, как ругательное: и окружающие замечают все это и говорят друг другу: да как же нам не презирать его, если он сам презирает и свое племя настолько, что ничего о нем не знает, и себя самого настолько, что ругается своим собственным именем?
Мы, евреи нынешнего переходного времени, вырастаем как бы на границе двух миров. По ею сторону– еврейство, по ту сторону – русская культура. Именно русская культура, а не русский народ: народа мы почти не видим, почти не прикасаемся –даже у самых «ассимилированных» из нас почти никогда не бывает близких знакомств среди русского населения. Мы узнаем русский народ по его культуре – главным образом, по его писателям, то есть по лучшим, высшим, чистейшим проявлениям русского духа. И именно потому, что быта русского мы не знаем, не знаем русской обыденщины и обывательщины, – представление о русском народе создается у нас только по его гениям и вождям, и картина, конечно, получается сказочно прекрасная. Не знаю, многие ли из нас любят Россию, но многие, слишком многие из нас, детей еврейского интеллигентного круга, безумно и унизительно влюблены в русскую культуру, а через нее в весь русский мир, о котором только по этой культуре и судят. И эта влюбленность вполне естественна, потому что мир еврейский, мир по ею сторону границы не мог в их душе соперничать с обаянием «той стороны». Ибо еврейство мы, наоборот, узнаем с раннего детства не в высших его проявлениях, а именно в его обыденщине и обывательщине. Мы живем среди этого гетто и видим на каждом шагу его уродливую измельчалость, созданную веками гнета, и оно так непривлекательно, некрасиво… А того, что поистине у нас высоко и величаво, еврейской культуры – ее мы не видим. Дети простонародья кое-как еще видят ее в хедере, но там она дается в такой нелепой форме и обстановке, что полюбить ее немыслимо. Дети же среднего круга и того лишены. Сплошь и рядом нет у них даже отдаленного понятия об истории еврейского народа. Они не знают о его исторической роли просветителя народов белой расы, о его несокрушимой духовной силе, которая не поддалась никаким гонениям: они знают о еврействе только то, что видят и слышат. А что они видят? Видят они запуганного человека, видят, как его отовсюду гонят и всюду оскорбляют, и он не смеет огрызнуться. А что они слышат? Разве слышат они когда-нибудь слово «еврей», произнесенное тоном гордости и достоинства? Разве родители говорят им: помни, что ты еврей, и держи выше голову? – Никогда. Дети нашего народа слышат от своих родителей слово «еврей» только с оттенками приниженности и боязни. Отпуская сына из дому на улицу, мать говорит ему: – Помни, что ты еврей, и иди сторонкой, чтобы никого не толкнуть…
Отдавая в школу, мать говорит ему: – Помни, что ты еврей, и будь тише воды, ниже травы… – Так поневоле связывается у него имя «еврей» с представлением о доле раба, и ни о чем больше. Он не знает еврея – он знает жида; не знает Израиля, а только Сруля; не знает гордого сирийского коня, каким был наш народ когда-то, а знает только жалкую нынешнюю «клячу». Роковым образом он узнает еврейский мир только по его изнанке – и русский мир только по его лицевой стороне. И он вырастает влюбленным во все русское унизительной любовью свинопаса к царевне. Все его сердце, его симпатии все на той стороне: но ведь он все-таки еврей по крови, и об этом никто не хочет забыть: и он несет на себе свое проклятое еврейство, как безобразный прыщ. как уродливый горб, от которого нельзя избавиться, и каждая минута его жизни отравлена этой пропастью между тем, чем бы хотелось ему быть. и что он есть на самом деле… – Отравлена? – усомнятся многие, а про себя подумают, что чересчур уже сильно это сказано. Ибо они сами все это испытали, и было оно. действительно. весьма неприятно в иные минуты: но ведь вот они. слава Б-гу. живы и здоровы, едят и холят, и ведут свои дела: значит, не так уж оно все опасно. чтобы стоило кричать об отраве. – А я думаю, что здесь именно отрава, отрава всего организма. Она не приводит нас к самоубийству, потому что она затяжная. изо дня в день. Мы с нею свыкаемся, как свыкается человек со своей хромотою. Я видел однажды хромую девочку, которая была очень весела, и, глядя на нее, я подумал: эта девочка уже свыклась и ничуть не страдает от своего недостатка. – Но тогда я уловил взор ее матери, устре мленный на нее. и мне стало страшно больно. Я понял. что мать лучше меня читала в душе этого ребенка. и видела ясно. как на самом дне этой души. даже в минуту хохота и резвости, таилась и теплилась какая-то искорка обиды за свое убожество. И мать понимала, что никогда не погаснет та искорка, и девочка пронесет ее с собою через всю жизнь, и как бы она звонко ни хохотала, как бы шибко ни выучилась бегать, все-таки вечно будет она чувствовать себя на крохотный волосок ниже других, потому что они как все люди, а у нее хромая нога. Так будет насквозь отравлена вся ее жизнь, и никогда не узнает она ни в чем полного счастья в той мере. в какой оно доступно другим людям, потому что она ниже их. Мать это понимала, и во взоре ее был траур по этой девочке. Если есть у нас чуткие матери, то и они должны тосковать о нашей судьбе, потому что драма хромой девочки, резвящейся рядом с другими детьми и все-таки хромой, есть драма еврея, влюбленного в чуждую культуру и все-таки еврея. Со стороны покажется, будто он рад и весел и забыл о своем уродстве; но кто умеет заглянуть в глубь души. тот и в самые счастливые минуты найдет на дне ее вечно болезненную точку обиды. Он может свыкнуться со своим горбом, но не может забыть. И потому вся жизнь его отравлена, и никогда и ни в чем он не будет переживать ее так же свободно и полновесно, как другие, ибо вечно, самому себе наперекор, будет себя чувствовать на волосок ниже других… Я вспоминаю один случай. Мы в одном городе Юга ждали как-то погрома. Я был в числе дозорных и обходил с двумя товарищами базары – понаблюдать, не начинается ли где-нибудь беда. При этом. проходя среди русской толпы, мы инстинктивно старались придавать себе «русское» выражение липа и говорить с московским акцентом. Мне кажется, что не из трусости и даже не из каких-либо особенных конспиративных соображений, а чисто по инстинкту: мы бессознательно чувствовали, что теперь удобнее стушевать наше еврейство и не привлекать внимания. На одном из базаров, где было много народу, мне бросился в глаза старый еврей, в пейсах и долгополом кафтане. Он пробирался среди толпы осторожно, и по лицу его чувствовалось, что он понимает опасность и боится. Но мне при взгляде на него при шло в голову, что он хоть и боится, а не делает и не может сделать попытки затушевать свои еврейские признаки. Он знает, что внешность его бросается и глаза и привлекает внимание враждебной толпы, но ему даже не могло прийти в голову, что следовало бы не казаться евреем. Он от малых лет сроднился с мыслью, что он – еврей и должен быть евреем, и теперь не мог бы даже вообразить, как это он да станет непохож на еврея, хотя бы и в минуту крайней опасности. Оттого он, который боялся, чувствовал себя в эту минуту внутренне свободнее нас, которые, может быть, не боялись в простом смысле этого слова, но все-таки инстинктивно прятали то, что он выставлял напоказ. Ибо мы от малых лет сроднились с мыслью, что мы. правда, евреи, но не должны быть евреями. Он – Б-жию милостью еврей; мы – осужденные на вечное еврейство. Я. вероятно, очень бледно и невразумительно рассказал все эти переживания, потому что говорю по отдаленным воспоминаниям. Для нас (я говорю о людях моего политического лагеря) уже давно прошла пора. когда мы так чувствовали. Мы подошли к еврейству и вгляделись в него. и нашли в нем столько величия и красоты, что под их обаянием душа выпрямилась. подняла голову и ощутила до глубины всю гордость сознания: «я еврей». Так же невольно, как мы прежде смотрели на ту сторону униженно влюбленными глазами, так же невольно смотрим мы теперь и на «ту», и на все другие стороны глазами равного на равного – даже. быть может, глазами высшего на младшего. Мы переродились, потому что прежде мы терпели свое еврейство поневоле, а теперь мы им горды, мы ему радуемся, как радуется женщина своей красоте. На Западе есть поговорка: aus der Not eine Tugend. По-русски это значит: возводить необходимость в добродетель, в заслугу. Эта поговорка насмешливая. но в основе ее лежит верно подмеченный психологический факт: человеку становится легче. если он aus der Not сделает себе eine Tugend – если тем, за что его преследуют, сам он будет гордиться. а не гнушаться. И если мы хотим, чтобы нашим детям было легче, если хотим избавить их от той драмы хромого, которую пережили сами, то мы должны воспитать их так. чтобы сознание своего племени было для них не неволей, а радостью и гордостью. Но для этого надо с первых лет очаровать их той величавой красотою, которую мы. их старшие братья, узнали так поздно, уже в мучительном переломе юности. Надо поверх нашей мизерной обыденщины, поверх согбенной спины жалкого Сруля, показать им Израиля, его царственный дух во всем его могуществе, его трагическую историю во всем ее грандиозном великолепии. Только это исцелит нашу душу. Мы должны честно вдуматься во все это. ибо так больше жить нельзя. Мы стоим перед огромною задачей, потому что почти ежедневно прибывают новые рекруты культуры из нашего племени, и мы должны спасти их от той внутренней горечи, которую так обильно и сытно испытали сами. Мы должны дать подрастающим поколениям гуманитарную культуру, но мы должны прежде всего гарантировать еврею мир с самим собою и уважение к самому себе. Мы прежде всего должны дать ему летопись нашей народности, чтобы он хорошо вник в то, как она жила с первых дней пути своего, сколько мощи проявила, сколько послужила братьям-иноплеменникам: чтобы он мог радостно улыбнуться, приосаниться и полюбить ее. Но эта летопись огромна, обширнее истории всякого другого народа, потому что древнее и потому что вторая половина ее разбита на отдельные поэмы скитания во многих чужбинах. Он должен узнать всю эту книгу книг, должен узнать о настоящем быте своих соплеменников иного подданства столько же, сколько о прошлом величии Иерусалима, чтобы чувствовать исконное братство. Он должен знать и прошлое, и нынешнее духовное творчество нашего племени, и не должны родные писатели оставаться для него неизвестными именами. Все это не может быть изучено между прочим: весь этот огромный материал требует огромного внимания: оттого ему должна быть отведена главная роль. ради него должно слегка потесниться, если нужно, все прочее, а не наоборот: наука об еврействе должна стать для нас центром науки.
Наша главная болезнь – самопрезрение, нашаглавная нужда – развить самоуважение: значит, основой нашего народного воспитания должно быть отныне самопознание. Так воспитывается на земле всякий здоровый народ, всякая нормальная личность. Вам часто, вероятно, говорят, что быть сторонником национализации воспитания значит быть сионистом. и я знаю, что многих этот довод пугает. Но это ошибка. Здесь спор идет не между сионистом и несионистом: спор гораздо глубже. На одной стороне стоят те, кто, сознательно или бессознательно, потеряли надежду или желание сохранить еврейство не прикосновенным и ведут его к исчезновению со сцены; на другой те, которые ко дню будущего международного братства хотят сберечь живым и того брата, имя которому Израиль, и сберегут его – во что бы то ни стало. Дело не в споре партии и партии: здесь спорят между собою тенденция жизни и тенденция смерти. Этим решается и вопрос о «древнееврсйском языке. Сегодня и здесь я не намерен говорить о нем. как о языке преподавания: это вопрос совсем особый, очень сложный и спорный. Я рассматриваю сейчас еврейский язык лишь как предмет преподавания и хочу в этом смысле определить его место и роль. Мне кажется возможным сделать это в немногих строках, ибо после всего, что выше сказано, сам собою напрашивается вывод: несомненно, что при таком перенесении воспитательного центра тяжести на самопознавание – еврейский язык совершенно неизбежно и естественно становится главным орудием воспитания. Когда человек интересуется французской литературой. он прежде всего изучает французский язык, а не полагается на переводы. Но мы ведь не просто «интересуемся», для нас это не есть вопрос любознательности – для нас вопрос идет об исцелении и перерождении исковерканной еврейской души, и еврейская культура стала для нас прибежищемединственного спасения. На ее изучении должны мы построить всю нашу новую систему воспитания, и начать волей-неволей придется с того наречия, на котором записаны все творения израильского духа. Наш язык – это порог, мимо которого нет доступа в школу национального воспитания, а проникнуть в эту школу стало для нас вопросом жизни или смерти. Нас упрекают в мечтательстве и романтизме, нам говорят, будто мы ведем свою национальную проно ведь из какой-то эстетической прихоти – потому, что нам нравится еврейская культура и еврейский язык. Да, не спорю, нравится, но не в том дело. Если бы еврейская культура была еще ниже клевет Лютостанского, если бы еврейский язык был хуже скрипа немазаной телеги, то и тогда возвращение к этой культуре через посредство этого языка было бы для нас совершенно непреодолимой реальной потребное тью, от неудовлетворения которой мы реально страдаем, – было бы властной исторической необходимостью. Нас национализирует сама история, и тех. кто ей противится, она тоже рано или поздно повлечет за собою. Но они поплетутся тогда за нею в хвосте, как связанные пленники за колесницей покорителя. Благо тому. кто вовремя поймет ее дух и пойдет в первых рядах ее победоносного течения. И первым из первых должен пойти тот. в чьей власти душа народа – народный учитель.
1903.
Примечание:
Лютостанский Ипполит – автор книг, содержащих невежественную клевету на еврейскую религию и культуру.
РЕЧЬ В ОБЩЕСТВЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ МЕЖДУ ЕВРЕЯМИ В ОДЕССЕ
Как относиться к идее ассимиляции еврейства? Все зависит от обстоятельств, от эпохи и потребностей, выдвигаемых эпохой. Есть моменты, когда ассимиляция представляется безусловно желательной, когда она есть необходимый этап прогресса. Это можно видеть даже на примере отдельного человека. Представьте себе ребенка с задатками живописца. В будущем. конечно, желательно, чтобы живописен был вполне индивидуален, вполне самобытен в своем творчестве. Но начинать с самобытного творчества нельзя: воспитание художника по необходимости начинается с усвоения чужого опыта, с подражания чужим образцам – словом, с «ассимиляции». Только по завершении этого этапа возможно здоровое развитие своеобразных начал, заложенных в натуре художника. Это самое применимо и к нелому народу в тот момент, когда он впервые (или после большого перерыва) выступает на поприще гражданской самодеятельности. Как ни сильны, даже как ни ценны были бы его специфические, индивидуальные, «национальные» отличия, как бы пышно ни предстояло им развиться в будущем, но начать он должен все-таки с подражания готовым образцам, с копирования, с «ассимиляции». Эту стадию прошел и такой огромный. самостоятельный народ, как русские: было время. когда даже дворянские барышни, вроде пушкинской Татьяны, умели писать только по-французски.
С евреями в России повторилось то же самое. Когда изменившиеся условия жизни вызвали распад патриархального гетто и детям его пришлось вмешаться. волей-неволей, в окружающую сутолоку, им прежде всего необходимо было овладеть тем орудием борьбы за существование, которое называется современной культурой. Это естественным образом заставило нарождавшуюся еврейскую интеллигенцию с жадностью наброситься на языки окружающей среды. При этом ею руководило далеко не стремление порвать с еврейством, а напротив – в основе тогдашнего «ассимиляционного» течения лежали ясные и определенные побуждения национального интереса. Яркий памятник того настроения нарисован Ле-вандой в романе «Горячее время». Герой этого романа – «просветитель», действующий в Вильне, в эпоху непосредственно перед 1863 годом, когда на Литве начиналась борьба, двух культур – русской и польской. Свой выбор он останавливает на первой. не из внутренних симпатий (обе ему чужды), а из холодного расчета: этот шаг, по его мнению, более соответствует интересам еврейства, как третьей нации, очутившейся между двух станов. Правильно ли решил герой Леванды этот вопрос или нет – дело не в том; но важно установить, что ассимиляция в ту эпоху была и объективно, и в глазах ее деятелей не отречением от еврейского народа, а напротив – первым шагом еврейской национальной самодеятельности, первой ступенью к обновлению и возрождению нации.
В эту эпоху возникло общество распространения просвещения. Заслуги его пред еврейством огромны – именно потому, что создатели его поняли основную нужду эпохи и пришли ей на помощь. Основной нуждой эпохи было – открыть еврею доступ к европейской культуре, внушить ему любовь и интерес к этой культуре. Это и стало задачей общества. Никакой другой задачи у него тогда и быть не могло. Смешно было бы в то время (общество учреждено было в 60-х годах) потребовать, чтобы оно «насаждало» еврейскую культуру: еврейская культура тогда и без того насаждалась, хотя нерационально, хотя наперекор всем правилам педагогики и даже гигиены, но в таком обильном количестве, что не нуждалась ни в каких поощрениях извне. Наоборот, к европейской культуре и ее ближайшему проводнику – русскому языку – существовало еще пренебрежительное и враждебное отношение, и приходилось с великим трудом добиваться, чтобы рядом с национальными элементами воспитания уделялось хоть какое-нибудь место общеобразовательным предметам. Такова была эпоха, такова была ее нужда, и такова должна была быть ее основная идея, воплотившаяся в «обществе просвещения». Но с тех пор прошло полвека, и многое, слишком многое резко изменилось как вне, так и внутри еврейства. Главным образом внутри. Если взять верхний и даже средний слой теперешнего российского еврейства и сравнить его с поколением шестидесятых годов, нам представится картина совершенно обратная. Смешно, теперь «насаждать» жажду к просвещению: она у евреев так сильна, напор в гимназию, в университет, в институты так ретив, что в этом отношении никакие «общества» ничего прибавить не могут. Русский язык распространен так основательно, что черта оседлости считается одним из лучших районов русского книжного сбыта. Публичные библиотеки, лекции, театры посещаются евреями с беспримерным рвением. При этих условиях делать и дальше из идеи «просвещения» боевой лозунг зна чило бы ломиться в открытую дверь. Если что теперь нуждается в заботливом «насаждении», то это. в силу диалектической игры судеб, еврейская культура, еврейские начала в воспитании подрастающих поколений. Ибо от этих начал остались одни лохмотья. Доказывать, что это правда, что национальный элемент воспитания у высших и средних классов еврейства давно уже в загоне, – значило бы тоже ломиться в открытую дверь. Кто не знает, кто не видит? И не со вчерашнего дня это началось. Поэт Гордон, один из лучших деятелей просветительной эпохи, еще в 1862 г. воспевавший – на языке Библии – преимущества русского языка, уже в начале 70-х гг. с горестным разочарованием заметил, что его последователи и ученики в своем усердии забежали слишком далеко. «Братья мои, просветители, стали пренебрегать старой матерью, – написал он тогда в стихотворении «Для кого я тружусь?», – они провозглашают: покиньте этот дряхлый язык. и пусть каждый сольется с наречием своей страны… А сыновья наши? Они с детства становятся нам чужды. Вот они подвигаются вперед, с каждым годом, и кто знает предел? и кто знает доколе? Быть может, до черты. откуда нет возврата»… Так на глазах еще у первых поколений «просветителей» совершилась метаморфоза: первоначальная идея – усвоить чужое, чтобы затем с новой силой развивать свое – выродилась в стремление ликвидировать свое и бесследно раствориться в чужом; ассимиляция из фактора национального прогресса стала фактором национального распада. А ведь со дня, когда вождь того поколения «просветителей» написал эти горькие слова разочарования, прошло 40 лет, и процесс распада проник еще гораздо глубже. И должно же, наконец, еврейство дать себе отчет: желает или не желает оно продолжать линию распада? «Сыновья наши с каждым днем уходят – быть может, к той черте, откуда нет возврата»… Горькое пророчество давно стало правдой. На еврейской ниве почти не осталось интеллигентных работников: наша интеллигенция в громадном большинстве ушла. Можно различным образом понимать нужду еврейского народа, различным образом представлять себе идеал его будущности, начиная с сионизма и кончая полной денационализацией; но и для первой, и для последней цели надо. прежде всего, работать с народом и для народа. Прежде так понимали свою задачу и ассимиляторы: они жили с народом, волновались его заботами, трудились для него и, проповедуя свой идеал, все же стояли обеими ногами на реальной почве еврейства. А теперешние – просто уходят в сторону, просто бросают на произвол судьбы: пропадайте, мол, сами. как знаете. И масса, покинутая в своем тупике, в лабиринте своего бедствия, бьется, мечется и не видит исхода: ей нужны просвещенные вожди, так нужны, так необходимы, как никакому другому народу на свете. – а между тем ее просвещенные дети служат всем народам на свете, только не ей. Нет работников ни для какого еврейского дела. от большого до самого малого, старые устают и сходят со сцены, а новых не видно. И мы знаем стариков, поседевших на службе ассимиляции, которые со скорбным недоумением смотрят на эту надвигающуюся пустоту и горько спрашивают себя: – Для этого мы работали? Для того. чтобы из ассимиляции родился индифферентизм?! Думаю, что на этот горький вопрос правда жизни откликается горьким ответом: да. вы для этого работали. Ибо для того, чтобы из подрастающих поколений выходили работники для еврейства, надо преданность еврейству положить в центр и основу их воспитания. Окружающий мир слишком прекрасен, приволен и богат по сравнению с неприглядностью и бедностью еврейского существования: и для того. чтобы эта красота не сманила человека, не соблазнила его отвернуться от родной лачуги, нужно развить в его душе прочные, нерасторжимые идеальные связи. Этих связей не создать одними словесами. Чтобы сковать такие связи, надо распахнуть перед подрастающим поколением все то великое и красивое, что есть в еврейской сокровищнице, ввести в нее. провести по всем ее углам, растолковать ценность каждой жемчужины, научить дорожить и гордиться. Красоте, манящей извне, надо противопоставить собственную красоту, чтобы не выпускать на житейскую улицу санкюлотов, убежденных в нищете и никчемности своего народа и спасающихся, куда глаза глядят. Углубление в национальные ценности еврейства должно стать главным, основным, преобладающим элементом еврейского воспитания. Это необходимо не для того, чтобы потешить националистов. Это необходимо для того. чтобы удержать на еврейской ниве ее разбегающихся пахарей, чтобы еврейская масса не осталась без руководителей, еврейское дело без работников, «народ Книги» – страшная ирония судьбы – без интеллигенции! «Уходят за черту, откуда нет возврата»… Почему уходят? Почему уходят, особенно в последнее время. такими густыми массами, с такой циничной легкостью, без намека на колебания, на сожаления, выбрасывая балласт еврейства, словно ненужный песок, по первому требованию невзгоды? Почему? Кто виноват? Кто довел до этой черты?.. Мне пришлось недавно писать об этом новом «бытовом явлении» еврейской современности, и после того я получил несколько писем от молодых людей, перешагнувших туда, «откуда нет возврата». Письма были разные. были и грубые, и циничные, и грустные, но во всех. без исключения, на первом плане стоял один и тот же довод: что нам еврейство? Мы о нем ничего не знаем. нас никто не учил понимать и любить его: ничего удивительного, если мы ушли. – И они совершенно правы. Ничего удивительного. Что мы посеяли, то и пожали…
1910.
В ТРАУРНЫЕ ДНИ
… Вот уже сколько прошло погромов, а я никак не могу себя пропитать внутренним интересом к событиям этого рода. Конечно, я не умаляю их разрушительной силы, не обесцениваю человеческого горя. что они приносят, но внутреннего интереса не могу в себе вызвать. Как я ни стараюсь себя расшевелить. мне все кажется, что над нами совершается большая кровавая бессмыслица, по поводу которой можно плакать, кто еще не разучился, но не стоит и не о чем размышлять. Я писал об этом недавно – в погромах есть ведра крови и пуды человеческого мяса, но нет в них для еврейского сознания того сокрытого урока – mussar Elohim, который возвысил бы их до степени трагедии. В трагедии обязательно должна содержаться некая неведомая правда, новое слово, которое познается в этих муках и открывает народу новые пути. А что и кому из нас открыли эти погромы. кого из нас и чему могли научить? Только кишиневская резня сыграла крупную роль в нашем общественном сознании, потому что мы тогда обратили внимание на еврейскую трусость. Но остальные погромы свелись просто к огромной, животной и бессмысленной уголовщине – больше ничего. Мы истекаем кровью и не знаем, во имя чего и какие выводы сделать из наших страданий. В октябре 1905 г. нас громили разные слои русского общества и народа, но мы и раньше знали, что мы окружены врагами; к этому знанию ни октябрь, ни Белосток ничего не прибавили. В Седлеце нас громили официально, по-видимому без участия общественных элементов, – но ведь даже хасиды Седлеца давно знают цену пану уряднику. Так меняется обстановка погромов, список участников и форма ран, но по существу остается одно и то же – остается вещее слово Бялика: «нет смысла в вашей смерти»… Когда мне рассказывают подробности погромов, мое внимание помимо воли отрывается и ускользает на другие пути. Мне хочется уяснить себе вопрос: хорошо, допустим, что я дослушаю до конца и буду знать, где, как и кого они убили, но ведь не в этом дело, а вот как быть дальше, что можно сделать против погромов? Самооборона – вряд ли об этом можно говорить серьезно. Она не принесла нам в итоге никакой пользы; вначале страх перед нею действительно предотвратил несколько погромов, но теперь, когда те ее испытали на деле и сравнили количество убитых евреев и погромщиков, кто с ней считается? Итоги самообороны надо подводить по общим результатам, и эти итоги ясно говорят: когда им угодно, они устраивают погром и убивают столько евреев, сколько им нужно, а самооборона тут ни при чем. Конечно, в самообороне есть утешение. Но ее практический итог равен нулю и нулем останется, и пора спокойно признать это вслух, чтобы люди даром не надеялись. Некоторые господа в последнее время придумали новое средство – антипогромную пропаганду. Одна моя знакомая девочка уверяет, что белок ловят очень просто: надо к ней подойти на полшага расстояния и насыпать ей соли на хвост, и готово – белка в плену. Я всегда об этом вспоминаю, когда мне говорят об антипогромной агитации. Старая песня, давно знакомая иллюзия – эти люди будут печатать статьи и брошюры, устраивать лекции, и они думают, что русские станут их читать или слушать. Еще бы. держите карман. Я помню жалкий восторг евреев, когда в 1905 г. в «Сыне Отечества» появилась большая и скверная статья «Трагедия шестимиллионного народа». Им казалось, что вся Россия читает и умиляется. А на самом деле только евреи одни и расхватали этот знаменитый номер газеты, памятник нашей глупости, и на русских она никакого впечатления не произвела просто потому, что у каждого есть свои заботы и ему не до чужих, особенно в наше время. Еще ярче выказалась наша глупость, когда после октября в Петербурге устроили от имени союза союзов «русский» митинг протеста и приложили все старания, чтобы евреи сидели дома. а русские пришли: оказалось, конечно, что русские остались дома, а ораторам пришлось ломать комедию перед сплошной еврейской публикой, призывая ее протестовать от благородного русского сердца. И это вполне понятно – русские не пришли вовсе не по злобе, а из самого законного равнодушия, потому что каждый человек, в особенности серьезный и дельный человек, естественно уделяетвнимание своим насущным интересам и не обязан его уделять интересам других. Я знаю, теперь эта идея многих увлекает, и образовались даже нарочитые книгоиздательства для печатания классических апологий, над которыми сами евреи зевают, а неевреям, без сомнения, даже и зевать не приходится. Образовались также в разных местах досужие комиссии, которые рассылают такую словесность направо и налево, по случайным адресам, или даже при газетах… Сыпьте, сыпьте белке соль на хвост! Получит еврей брошюрку – позевает, но прочтет; получит русский – посмотрит: а, это про евреев? – и отложит в сторону. У него своих хлопот довольно. Что, – он, по-вашему, обязан досконально знать и про армян, и про чукчей?
Все эти верующие господа думают, что если русская масса охотно читает юдофобскую литературу, она столь же охотно будет читать и юдофильскую.
Большая и наивная ошибка. Прежде всего надо помнить о тех элементах, которые в данном случае стоят на первом плане – о черной сотне в простейшем смысле, которая хочет погрома ради грабежа и обещанной мзды: им не нужна даже погромная литература, а пронять их еще антипогромной проповедью – ведь это была бы совсем уж глупая мечта. Наши проповедники, несомненно, имеют в виду другую часть массы – среднюю, обывательски-честную, ту самую, которую действительно почти так же легко будет в надлежащую минуту послать на баррикады, как и на погром. Но эта масса и есть именно та, которая психологически не может заняться чтением брошюр о еврейских добродетелях. Погромную брошюру она жадно читает по той самой причине, почему она жадно читает и летучий листок революционеров – если он, конечно, изложен понятным языком: здесь ей говорят о причинах ее собственных страданий, указывают ей средства к облегчению ее собственных бед. Разница только в том, что погромная брошюра во всем винит жида, революционный листок – урядника, но и здесь, и там ей прежде всего говорят не о жидах и не об урядниках, а о ней самой, об ее кровных интересах. Совершенно другое дело – антипогромная литература. В самом ее назначении коренится абсолютная невозможность ее успеха: она вся посвящена доказательству именно того. что к страданиям русской массы жил нисколько не причастен, что не он виноват, не в нем причина – словом, что ей. русской массе, от еврея ни тепло, ни холодно… Но тогда с какой же стати будет она тратить время на чтение о том. от чего ей ни тепло, ни холодно? Массовому человеку чтение дается нелегко: он не умеет «пробегать» строки, он вчитывается и вникает. И именно поэтому он берет в руки только ту книжку, о которой ему доподлинно известно, что тут– верно или неверно, другой вопрос – объяснены причины его нужды и горя. Не может он. органически не может и по совести лаже не обязан интересоваться какими-то евреями, как таковыми. С того самого момента, как они перестают быть причиной его бед. они для него теряют всякий интерес. Сказать ему, что в этой брошюре доказывается невин ность евреев, значит сказать ему. что эта брошюра до него не касается. Русская масса глотает и будет глотать погромную литературу, потому что это литература о ней, и не будет читать антипогромных брошюр, потому что это литература о евреях. Моя знакомая девочка очень наивная девочка. Она не соображает, что прежде чем насыпать белке соли на хвост, надо подойти к белке, а в этом и вся загвоздка…Я прекрасно понимаю те добрые побуждения, которые заставляют разных господ измышлять все эти проекты спасения, но ничего из этого не выйдет. Спасения нет. Не злая воля подстрекателей, не темнота народной толпы, но сама объективная сила вещей, имя которой чужбина, обратилась ныне против нашего народа, и мы бессильны и беспомощны. Молодежь наша будет честно защищаться, но лавина разгрома с хохотом погребет эти хрупкие дружины и даже не замедлит своего хода. Кратеры голуса разверзлись, буря сорвалась с цепи, и чужбина сотворит над нами все, что ей будет угодно. Вы будете кор читься от бешенства и подымать яркие знамена борьбы, вы напряжете все силы духа, чтобы найти тропинку спасения, и сами себе поверите на миг. будто нашли ее, – но я не верю и гнушаюсь утешать себя сказками, и говорю вам со спокойным холодом в каждом атоме моего существа: нет спасения, вы в чужой земле, и до конца свершится над вами воля чужбины!
Один еврей-журналист воспользовался недавно Бе-лостоком, чтобы сунуть мне в душу свои пальцы и пощупать там, какова моя «погромная философия». И нашел, что я равнодушен к еврейскому горю. Я ему не ответил – я слишком хорошо понимаю настроение людей этого типа, чтобы гневаться на них за несправедливость или обиду. Здесь было повторение старой еврейской истории – человек отдал лучшие соки своей жизни на то, чтобы распахать чужую ниву, и в последнюю минуту хозяева убили его братьев и трупами их удобрили свое поле: и человек пошатнулся от оскорбления, и судорожно хватается за соломинки, и злится на всех людей за каждое слово правды, и хочет непременно что-то такое кропотливо и мелочно доказать или опровергнуть –даже нельзя понять, что именно. Я не стал ему отвечать. да и нечего мне было ему ответить: у меня нет никакой погромной философии… У меня нет погромной философии. Я не из тех. которым она необходима, чтоб было чем заштопать прорехи, было за что ухватиться, когда чужой ураган опрокинет их вместе с их истуканами. Я ничему не учусь на погромах нашего народа, и ничего мне сказать не могут они такого, чего бы я раньше не знал. И я не ищу понапрасну лекарственной травы против отдельных нарывов голуса, потому что я в нее не верю. У меня нет ни погромной философии, ни погромной медицины. Я люблю мой народ и Палестину: это моя вера. это ремесло моей жизни, и ничего мне на свете больше не нужно. И когда разражается гром и арабские души мечутся с жалобным воем и ищут пластыря для скорой помощи, я стискиваю зубы, собираю мои силы и делаю дальше работу моего ремесла. Я хочу торговать шекелями среди погрома, я клею голубую марку на список убитых: в этом моя гордость. Вы сунули пальцы в мою душу и не нащупали в ней ничего, кроме равнодушия – видно, толстая кожа стала на ваших пальцах от чуждой работы. Но что бы ни творилось у меня на душе, – никогда не приду я на страшное пожарище моего народа с заплаканным носовым платком в руках, и ни его. ни себя не оскверню надругательством жалких утешений. У меня нет лекарств от погрома – у меня есть моя вера и мое ремесло: не из погромов я вынес эту веру, и не ради погрома я оставлю даже на час это ремесло. Вера моя говорит, что пробьет день, когда мой народ будет велик и независим, и Палестина будет сверкать всеми лучами своей радужной природы от его сыновнего рабочего пота. Ремесло мое – ремесло одного из каменщиков на постройке нового храма для моего самодержавного Бога, имя которому еврейский народ. Когда молния режет насквозь черное небо чужбины, я велю моему сердцу не биться и глазам не глядеть: я беру и кладу очередной кирпич. и в этом мой единственный отклик на грохот разрушения.
1906.
ЕВРЕЙСКАЯ КРАМОЛА
Наше движение пробивает себе дорогу в атмосфере непонимания и клеветы. Кто близко видел жизнь разных партий и следил за их враждою, знает, что ни против одной из них не пущено в ход столько ненависти, сколько против нас. Сделано все, чтобы нас изолировать. Свежий человек из среднего круга, примкнувший к нашему лагерю, замечает, как понемногу от него ускользают старые связи, падает общественное признание, вместо уважения в глазах окружающих мелькают искорки пренебрежительного недоумения. С поражающей быстротой создается вокруг него – за пределами партийной жизни – холод одиночества.
В этом нет ничего странного. Так было и всегда будет. Когда на улице праздник, люди требуют, чтобы все были в брачных одеждах; среди еврейской интеллигенции до сих пор еще держится вера, что праздник относится и к нашей улице; и когда между ними проходит человек с траурной повязкой на руке и с кличем: «не верьте!» – они раздраженно отворачиваются. Это вполне естественно, роптать против этого бесполезно. Навстречу недружелюбию, навстречу злобе и клевете надо нести нашу горькую правду без прикрас и без смягчений.
Я хочу начать сегодня с самого горького зерна этой горькой правды, и не только потому, что оно горше всех остальных, но еще больше потому, что в этом вопросе главный корень упрямой ненависти, которой окружено наше движение. Флаг надо подымать сразу над тем местом, куда направлен самый жестокий натиск противника. Это – вопрос о еврейской роли в русских событиях.
Почти уже десять лет, как люди нашего лагеря ведут настойчивую проповедь осторожного и сдержанного отношения к этой роли. Может быть. эта проповедь была ошибкой с их стороны, потому что она тактически много нам повредила, а практически не принесла результата: все, в ком только было достаточно задору, все побежали на шумную площадь творить еврейскими руками русскую историю. Раз оно так случилось, значит и не могло быть иначе, и наша проповедь осуждена была на бесплодие, и было бы расчетливее совсем не тратить нашей силы на этот спор. В этом смысле мы, быть может, сделали действительно ошибку, но только в этом. Есть и другой смысл – смысл исторической правды, которая не всегда вовремя проникает в сознание людей, но всегда остается правдой. Эта правда была за нами. И теперь, когда накоплен еврейством России неслыханный, чудовищно-богатый опыт. когда пережито все. что можно было пережить на быстром пути между верхом восторга и пропастью отчаяния, теперь мы подводим итог и спрашиваем: кто был прав?
Нам до сих пор стараются втолковать, что дело России есть общее дело, как будто против этого кто-нибудь спорил. Суть спора в том. что на общее дело надо и расходовать сообща, а сообща значит пропорционально. Затраты каждой общественной группы должны быть точно соразмерены и с ее интересами, и с ее силами. Больше должен тратить на общее дело тот, кто получит большую выгоду от его осуществления: больше должен тратить тот, у кого силы и средств больше. Пропорциональное представительство в революции! –Наша еврейская затрата на дело обновления России не была соразмерна ни с нашими интересами, ни с нашим значением, ни с нашими силами. Даже в моменты наибольшего опьянения надеждами не было в рядах еврейской армии ни одного глупца настолько бессовестного, чтобы ждать от успеха борьбы полного ответа на еврейский вопрос, – ни одного, кто в глубине души не понимал бы, что в обновленной России нам придется жить с теми же соседями, а психология соседей в этом отношении еще нигде и никогда не перерождалась от политической реформы, и суть неравенства не меняется от замены казенного гнета общественным непризнанием. Это все понимали. Все понимали, что нам обновление России даст меньше, непомерно меньше, и все же мы заплатили больше, непомерно, безумно больше того, что могли заплатить, и того. что стоило заплатить. В течение пятнадцати лет мы собственною волей систематически вносили на алтарь общего дела удесятеренную живую подать, а когда взошел посев, судьба взыскала с нас уже помимо нашей воли неслыханную доплату… Кто же был прав? Или все это теперь окупится? Или не разумнее было бы для раздавленного и опустошенного племени уступить переднее место в бою сильнейшим? И если даже поверить, что от этого, по чужой косности, ход событий растянулся бы на более долгие годы. Кто решится сказать, что не лучше было бы для нашего народа встретить обновление позже, но не за такую цену?
Наши политические плясуны в ответ на все это кричат о психологии лавочника, о мелочных расчетах, достойных мещанской глуши. Да. Над народным достоянием и благом честный человек должен стоять на страже скупо и расчетливо, как лавочник над своею кровной кассой. Семь раз отмерь и один раз отрежь – это правило мещанина, но политическая партия совершает низкое и нечестное дело. если она хоть на мгновение забывает об этом правиле. Звать массу на трудный подвиг, не взвесив раньше до золотника, во что это ей обойдется, не разорит ли ее непомерное бремя и стоит ли вся игра свеч. – это значит быть в худшем случае предателем, в лучшем случае болтуном. – Но тут есть и другая сторона расчета. Наши затраты не окупятся для нас. но окупятся ли они хоть для общего дела? Правда ли то. что еврейская энергия облегчила и ускорила восход русской свободы?
За каждым из нас должно быть признано право, на исходе определенного периода истории, в такие дни затишья, как нынешние, сесть за стол и подсчитать итоги, подсчитать все то хорошее и все то дурное. что произошло от участия нашего народа в революции. Я хочу это сделать. Попытаюсь это сделать исключительно с помощью трезвого рассудка, намеренно сухо. без всяких апелляций к чувству. Речь идет о подсчете, об итоге, и я хочу действовать, как безличный и добросовестный бухгалтер, у которого, быть может, не все данные в руках, но одна только прямая цель – получить, насколько это в его силах, правильный баланс.
Ходячее представление так формулирует роль, сыгранную в освободительном движении евреями.
Революции не было. Надо было вызвать ее. И это взяли на себя евреи. Они – легко воспламеняющийся материал, они – грибок фермента, который призван был возбудить брожение в огромной, тяжелой на подъем России. И так далее. Все это много раз уже сказано, много раз писано черным на белом и считается большой истиной. Но я, счетовод, над этой затратой еврейского народа останавливаюсь в нелегком раздумьи и не знаю. окупилась и окупится ли она.
О, бесспорно, это заманчивая задача: быть застрельщиками великого дела, разбудить политическое сознание в 150-миллионном народе, поднять красное знамя на Литве так высоко, чтоб увидал и Тамбов, и Саратов, и Кострома – чтоб увидали и сказали друг другу: «Пойдем за ним». И. конечно, все это было сделано, поскольку оно зависело от еврейских революционеров: знамя было поднято, и так высоко, и с таким шумом, что Кострома, несомненно, увидела. Но какое действие произвело это на политическое сознание Костромы?
Я вспоминаю, отмечаю, подсчитываю, и вижу ясно, что действие было двоякого рода. С одной стороны. Кострома, бесспорно, вводилась и искушение. Эта борьба на другом конце России не могла не вызывать у нее, Костромы, соблазнительной мысли: значит, можно и у нас попробовать тем же манером? В то же время отдельные евреи добирались и до самой Костромы и лично старались там претворить эту соблазнительную мысль в действие. Все это вело. конечно, к пробуждению политического сознания. Но… А с другой стороны?
Я вспоминаю потемкинские дни в одесском порту. Огромная толпа гаванских и заводских рабочих, самодельная трибуна и ораторы на этой трибуне. Днем толпа еще не была пьяна, даже не подозревала, что через несколько часов она же будет лизать ликер с булыжника мостовой и жечь пакгаузы. Днем толпа эта была настроена несколько торжественно и необычайно, благодаря присутствию мертвеца в палатке и вообще всей обстановке того странного дня. Толпа была в том состоянии неопределенного подъема. когда из нее можно сделать все. что угодно: и мятеж, и погром. Речистый молодец, с открытым славянским лицом и широкими плечами, мог бы ее повести за собой штурмом на город. И ораторов, действительно, слушали с захватывающим вниманием. Но речистый добрый молодец не появлялся, а выходили больше «знакомые все лица» – с большими круглыми глазами, в большими ушами и нечистым «р». И в толпе всякий раз, со второго слова каждого оратора, слышалось замечание: А он жид? Именно замечание, а не возглас, не окрик: в этом, сохрани Боже, не чуялось никакой злобы – это просто, так сказать, принималось к сведению. Но ясно в то же время ощущалось, что подъем толпы гаснет. Ибо в такие минуты, как та, нужно, чтобы «толпа» и ее «герой» звучали в унисон, чтобы оратор был свой от головы до ног, чтобы от голоса, от говора, от лица, от всей повадки его веяло родным – деревней, степью. Русью.
Тут были ведь не спропагандированные люди. которых можно взять резонами, – тут была масса, не подготовленная, но ко всему готовая, если ее схватить за душу. Но чтобы схватить за душу. надо иметь доступ к душе, а чтобы уметь проникать в душу народа. нужно принадлежать к этому народу. Нужно тогда, чтобы ничто, ни одна нотка, ни один жест не по коробили, не оттолкнули стихийного чутья толпы. Здесь этого сродства не было. Выходили евреи и говорили о чем-то, и толпа слушала их без злобы, но без увлечения; чувствовалось, что с появления первого оратора-еврея у этих русаков и хохлов мгновенно создалась мысль: жиды пошли – ну, значит, все это, видимо, их только, жидов, и касается. Создалось впечатление чужого, не своего дела, раз о нем главным образом радеют чужие. И больше ничего. Да и этого было довольно: расплылось и упало настроение, толпа стала разбредаться, появились награбленные бутылки, и беспомощные агитаторы ушли в город. Оставив порт и босячество на волю судьбы.
Я далек от того, чтобы медленный рост политического сознания в русских массах объяснять всецело обилием евреев-агитаторов. Но я не сомневаюсь в одном: подымать народную новь может только свой. У чужого – если он не Лассаль, но ведь Лассаль был гений агитации, а гении не повторяются. – у чужого нет того обаяния, которое в таких случаях необходимо. Народ чует чужака и особенно чужаков, если их много, и инстинктивно сторонится.
А враги этим пользуются. Из двадцати процентов евреев они делают девяносто и кричат народу: берегись, это еврейское дело! И народ им верит, или, по крайней мере, долго и упорно верил, и мы это чувствовали на своей спине. Когда невмоготу становились страдания русского народа, и вот-вот готов был прорваться его гнев, – кто сосчитает, сколько раз в такие моменты реакция спасала себя искусной игрою на этой слабой струнке стихийного существа – на недоверии к революции, предводимой инородцами?
Я прекрасно знаю, что еврейские революционеры нисколько не ответственны за то, как освещала реакция их роль в освободительном движении. Да я никого и не виню, я только подсчитываю результаты. И говорю, что если с одной стороны еврейская революция будила политическое сознание русских масс, то с другой стороны преизобилие евреев в рядах крамолы давало реакции ценный и богатый материал для затемнения политического сознания этих масс. Отрицать это значило бы лгать самим себе. И пусть не думают, что это был слабый или недействительный фактор затемнения! В 1863 году реакция сыграла такую же спекуляцию на польском повстании, и успех этой спекуляции всем известен. Недоверие к чужаку всегда было и долго еще будет могучим тормозом для правды, приходящей извне.
И я, бухгалтер, не знаю, что мне делать с этой статьей баланса, на какую страницу вписать ее. Революционный пыл еврейских социалистов будил политическое сознание остальной России, но он же способствовал и затемнению этого сознания. Он давал топливо для революции и пищу для реакции. Что же было сильнее: первое или второе? Иными словами: ускорила или замедлила еврейская крамола наступление всероссийской революции? И если даже ускорила, то на великий ли срок? И стоит ли этот срок той крови стариков, и женщин, и детей, которой нас заставили заплатить, под ножами предателей, за крушение старого строя? Не выгодней ли было для народа подождать еще несколько лет – ведь и без евреев, наконец, не погибла бы Россия, – но дешевле заплатить за свободу?
Пусть, положа руку на сердце, отвечает, кто может, – я не могу, потому что не знаю ответа.
Я написал недавно в одной русской газете, что еврейская кровь на баррикадах лилась «по собственной воле еврейского народа», и меня упрекали за эту фразу. Но я именно так думаю. Я считаю невежественной болтовнёю все модные фразы о том, что у евреев нет народной политики, а есть классовая. У евреев нет классовой политики, а была и есть (хотя только в зародыше) политика национального блока, и тем глупее роль тех, которые всегда делали именно эту политику, сами того не подозревая. Они делали ее на свой лад, с эксцессами и излишествами, но по существу они были все только выразителями разных сторон единой воли еврейского народа. И если он выделил много революционеров – значит, такова была атмосфера национального настроения. Еврейские баррикады были воздвигнуты по воле еврейского народа. Я в это верю, и раз оно так. я преклоняюсь и приветствую еврейскую революцию.
Но на пользу ли народу пошла эта революция? Не знаю. Воля народа не во всякий отдельный момент ведет к его благу, потому что не всегда народ способен верно учесть объективные шансы за и против себя. И в особенности легко ошибиться тогда, когда весь расчет основан на вере в сильного союзника, на вере в то, что он поймет, он откликнется, он поможет, – а на деле никто из нас этого союзника не знает, и Бог весть еще, как он нас отблагодарит…
Только там, где на себя самого и ни на кого больше не должен рассчитывать народ,-только там воля народа всегда ко благу его. Таково наше движение. Мы не звали народ ни к кому в объятия, не сулили ему ничьей благодарности за услуги и заслуги: мы строили и скрепляли народное единство, и воспитывали сознание национальных задач. И потомки благословят нас за наши суровые призывы к эгоизму, за наше открытое и явное неверие в чужую помощь, и скажут: благо тем, которые в то смутное время, полное миражей и обольщений, умели выбрать прямую дорогу и повели свой народ навеки прочь от чужой помощи и чужого предательства.
Мы – партия национального зодчества – никогда не хотели играть вслепую, и в этом вся разница между нами и другими. Мы всегда знали, что работа на поле, где не мы хозяева, есть игра с завязанными глазами и ничем иным не может быть, и мы протестовали против вовлечения народной массы в эту безумную авантюру. И теперь, после новых и решающих опытов, мы с полным сознанием остаемся на старой позиции. Мы честно и дружно пойдем с освободительным движением, ибо вне свободы немыслимо национальное сплочение, но самая сила вещей отвела евреям место во вторых рядах, и мы оставляем первые шеренги представителям нации большинства. Мы отклоняем от себя несбыточную претензию вести: мы присоединяемся – это все, что объективно под силу нашему народу. В этой земле не нам принадлежит созидательная роль, и мы отказываемся от всяких притязаний на творчество чужой истории.
Поле нашего творчества внутри еврейства. Мы служим еврейскому народу и не желаем другого служения. Здесь мы не слепы, здесь не ведем народ в безвестную темноту, на добрую волю союзников, которых не знаем, за которых не вправе ручаться. Здесь мы даем народу цель и говорим: у тебя нет союзников – или сам за себя, или нет спасения. Никто на свете не поддержит твоей борьбы за твою свободу. Верь только в себя, сосчитай свои силы, измерь свою волю, и тогда – или иди за нами, или да свершится над тобою судьба побежденных.
1906
ВАШ НОВЫЙ ГОД (Письмо на родину)
Между Одессой и Петербургом ходит скорый поезд. В полдень ему дают третий звонок на перроне одесского вокзала, а приходит он в столицу на вторые сутки в девять утра; обратно он выходит вечером и прибывает в Одессу около шести часов после обеда. Если вы сосчитаете, то увидите, что по дороге туда он встречает первую полночь около Бердичева. а вторую несколько дальше Двинска; на обратном пути первая полночь у него приблизительно в Луге, а вторая где-то не доезжая Ровно. По обе стороны его полотна расстилается многоземельная, но тесная страна – черта еврейской оседлости.
Я встретил первое января 1904 года в вагоне близ станции Луга. Первое января 1905 года в вагоне за Двинском. Первое января 1906 года в вагоне около Бердичева. Первое января 1907 года в вагоне где-то не доезжая Ровно. – Я немного устал.
В этот раз я никуда не поехал и никуда не пошел. Люди Вены ждут первой январской полночи на площади у собора св. Стефана, веселятся и шумят; но я никуда не пошел. Я устал, я слишком много шуму переслышал за эти четыре года.
У меня горела на столе моя лампа и в печке рдели угольки, у меня был чай, диван, книги, опущенные занавесы и тепло в комнате. Это было, вероятно, то самое, что люди зовут мещанским уютом. Ну, и пусть. Я заработал свое право один раз дождаться новогодней полночи в ласке домашнего тепла. Иногда надо жить, как все живут. Если носишь постоянно не такие галоши, как у всех, то наконец душа не вытерпит. Перетянутым нервам лучшее лекарство шаблон. И, кроме того, после такой жизни именно шаблон представляет все очарование новизны.
Добрый австрийский Бог понял меня и устроил все как полагается в книжках для хорошего зимнего вечера в укромном уголке: на улице гудел ветер, выла от времени до времени проволока трамвая, а дома было тихо, все ушли, печка не дымила и лампа не коптила, ветчина и масло попались хорошие. Завтра я нахлобучу шапку, подыму воротник и пойду своей дорогой по жесткому ветру, но один вечер можно провести в мягко-нагретой ванне своего собственного, беззлобного, безмятежного эгоизма.
Так я сидел и праздновал сам не знаю что. Люди Вены праздновали свой Новый год: вы отстали от них на тринадцать дней (говоря вообще, для вас это совсем немного) и празднуете свой Новый год на две недели позже. Мне все равно, я люблю все народы на свете и праздники всех народов; когда они ликуют о своих годовщинах и мне случится быть неподалеку, я просто рад тому, что людям весело, и праздную в душе их веселый час – если только нет у меня в тот самый день собственных траурных поминок.
Так я сидел и омывал запыленную душу покоем и воспоминаниями о далеких людях и пробежавших днях, об умирающем годе и обо всей грустной аллее лет, рожденных и ушедших за мою память. Где я в последний раз пил в эту полночь шампанское и желал соседям несбыточных вещей? А, это было у вас, в вашем городе, в то милое наивное время пять лет назад. Помните ли вы, как было все тогда по-другому? Город ваш был тогда веселым и красивым городом, братоубийство еще не обезобразило его улиц и не обратило в пустыри, по которым, озираючись, прошмыгивают редкие тени. Сами вы ждали каждый день чего-то великого и радостного. Как дети перед елкой, вы много суетились и волновались. Внутренний огонь ваш нарастал, что день. то жарче, и не было такой мелочи, для которой у вас не хватило бы пылу и о которой вы не спорили бы с увлечением и страстью. Все вам казалось страшно важным, все играло роль в вашей жизни. Новая книжка толстого журнала была событием. Удачная статья производила впечатление большой политической победы. Не в тон сказанное слово называлось изменой. Пять лет ссылки на поселение считались драконовской жестокостью. Когда по улице проходил актер, художник или писатель, вы толкали друг друга в бок и шептали: смотри, кто идет!
Теперь не то. Захолустный небывальщина, которого легко было удивить, переродился. Не знаю. стал ли он умней и лучше, но он навидался видов – навидался таких вещей, которые, быть может, из десяти поколений одному показывает история. Так же. как это было нетрудно в те времена, трудно теперь овладеть его пресыщенным вниманием, разбудить его исчерпанный энтузиазм, задеть за одну из немногих еще не лопнувших у него струн. Максим Горький мог бы теперь свободно показаться в фойе театра, это не собрало бы толпы. Коренные римляне редко ходят глазеть на нового папу или на приезжего заграничного монарха, они это предоставляют новоселам города: им самим уже неинтересно, они за тридцать веков видали и царей, и пап куда большего калибра, вообще видали события, пред которыми все величие первосвященников и королей подобно свечке под лучами солнца. На это немного похожа теперь ваша психология. Когда теперь оглядываешься на те еще недавние годы, кажется, что пред тобою детски счастливая молоденькая девушка с ясными глазами, нарядная в своем незатейливом ситцевом платьице, и хочется сказать: – Какое простенькое время.
Просто жилось и верилось тогда, и простые пожелания к Новому году делали мы друг другу в невозвратимые вечера юношеских надежд. Я еще помню, чего я пожелал своим соседям в тот последний канун, я им сказал: не пожелаю вам ни счастья, ни здоровья; ничего. У меня для вас нет сегодня пожеланий. Но между нами только что невидимо явился некто новый, годом зовут его люди, и не вам, а ему я хочу принести свое пожелание. Я ему желаю запечатлеть четыре цифры своего имени на вечные времена в памяти России и человечества: я ему желаю свершить великое. Оттого я не пожелаю вам, людям, ни счастья, ни здоровья, ничего. Ибо счастье людей помеха величию года. Чтобы стать великим, он должен перешагнуть через ваше счастье. И сколько бы ни было между вами тех, кому суждено схоронить свое счастье и самую жизнь под стопами победоносного года, и как бы они близки ни были моему сердцу – да свершится.
Я разучился теперь говорить такие слова. Мне все чаще кажется, что я вообще разучился говорить с вами. Если бы я сидел сегодня за вашим столом, я бы не стал пить ваше вино и не сказал бы вам ни одного слова.
Я молчал бы с вами не потому, что не верю больше в «великое». Напротив, я не сомневаюсь в его неизбежности. Но душа моя холодна.
Я молчал бы оттого, что мне чуждо ваше завтра, чужда ваша вера и чужды вы сами. Вы – единственные на свете, чьих праздников я не делю. Ни одна ваша радость не задевает меня. ваши горести кажутся мне мелкими, ваши надежды жалкими и вся жизнь ваша ничтожною. Когда вы плачете о своих увечьях, мне противно, потому что вы разменяли на полушки большую трагедию. Надо играть ее со стиснутыми зубами, с бледными лицами, сухими глазами: вы ее ведете в тоне плаксивой жалобы, и мне тяжело смотреть на ваше надругательство. Когда же вы радуетесь или надеетесь, непреодолимая волна отвращения подымается к моему горлу, потому что я вижу. за какие гроши вы продаете свою радость, на какие мелкие крючки можно поймать вашу надежду. Я думал, что вам больше цена.
Оттого одно только мог бы я сказать вам сегодня, будь я сегодня с вами: мне вам нечего желать, потому что мне безразличен ваш завтрашний день. Для меня существует только мое завтра, только моя заря. в которую верю всем трепетом моего существа, и ничего мне больше не нужно. Не могу я сказать: желаю вам счастья в наступившем году. – это было бы неискренно. Ибо если вам на минуту покажется, будто вы счастливы, я надену траур и приду на ваш праздник, осмею ваше легковерие, вышучу ваши тосты, прокаркаю над вами злую правду и отравлю каждую каплю вашего благодушества. Это единственное, что меня еще связывает с вами: я хочу колоть правдою ваши глаза, опрокидывать ваши карточные домики. тушить ваши волшебные фонари с пестрыми картинками, чтобы вы ясно видели пред собою глухую стену и вокруг себя унылую безнадежность: и сколько станет моей силы, я вам не дам ни на день забыться, я вам не дам тешить себя и мечтать.
Больше мне с вами не о чем говорить: все остальное, чем вы живете, не интересует меня, только насильно могу я сосредоточить свои мысли на ваших вещах и делах, лишенных для меня всякой ценности, – и это мне с каждым днем становится труднее. С каждым днем растет отдаление между мною и вашим миром: я уже с трудом различаю, что у вас там копошится, и скоро, может быть. совсем перестану различать.
Я не служу и не хочу служить ничему из всего того, что вам дорого. У вас там есть свои идеалы: я их очень ценю, но в руках у вас они смешны и бесплодны; поэтому я издеваюсь над ними и над вами и буду бороться с ними и с вами, для торжества моей веры, всеми путями и всеми орудиями, во что бы то ни стало.
Я когда-то сильно чувствовал красоту свободного. нерядового человека, «человека без ярлыка», человека без должности на земле, беспристрастного к своим и чужим, идущего путями собственной воли через головы ближних и дальних. Я и теперь в этом вижу красоту. Но за себя я от нее отказался. В моем народе был жестокий, но глубокий обычай: когда женщина отдавалась мужу. она срезала волосы. Как общий обряд, это дико. Но воистину бывает такая степень любви, когда хочется отдать все, даже свою красоту. Может быть, и я бы мог летать по вольной воле, звенеть красивыми песнями и купаться в недорогом треске ваших рукоплесканий. Но не хочу. Я срезал волосы, потому что я люблю мою веру. Я люблю мою веру, в ней я счастлив, как вы никогда не были и не будете счастливы, и ничего мне больше не нужно.
Поздравляйте друг друга с Новым годом, если вам это не надоело. Я не вижу для вас разницы между вчерашним и нынешним днем и не имею для вас ничего, ни доброго, ни худого слова.
Вена, 1 января 1908.
О «ЕВРЕЯХ И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»
В «Свободных мыслях» была помещена статья К.Чуковского о евреях в русской литературе: потом появилась на ту же тему статья г. Тана. больше похожая на лирическое письмо, чем на статью. Последнее обстоятельство дает и мне повод высказаться по этому вопросу. Будь это спор. я бы не принял участия в нем… Другое дело обмен личными настроениями. по лирическому примеру г. Тана. и я прошу позволения последовать этому примеру.
Кое в чем наши личные настроения сходны. Меня весьма тронуло, например, что г. Тан пишет всеми буквами черным на белом: «мы, евреи». Это нововведение: насколько знаю, это в русской печати второй случай. Обыкновенно еврейские сотрудники русских газет пишут о евреях не «мы», а «они»: местоимение первого лица приберегается для более эффектных случаев, например: «мы, русские», или «наш брат русак» (я сам читал). Растрогало меня и то, что г. Тан отказывается считаться с пресловутым доводом. будто не следует «в такое время» задевать «такой вопрос». Мы с г. Таном прекрасно знаем, что дело тут не в задевании вопроса, а в упоминании лишний раз слова «еврей», чего многие терпеть не могут: в этом смысле «такое время» было и год, и два. и пять лет. и пятнадцать лет тому назад. Но вслух, конечно, приводятся самые благородные мотивы – что не надо. мол. «играть в руку». Выеденного яйца не стоят эти благородные мотивы. Из-за них не было еврейскому публицисту никакой возможности поговорить с евреями, читающими по-русски, об их делах или об их недостатках – например, о множестве рабских привычек, развившихся в нашей психологии за время обрусения нашей интеллигенции. Эта интеллигенция не читала ни «Восхода», ни древнееврейских и жаргонных газет, а читала больше всего провинциальную прессу черты оседлости – которую, кроме нее. почти никто не читал, в которой, кроме нее, почти никто не писал и которая в общем не печатала ни одного слова о еврейских делах. Порою хотелось рвать на себе волосы от бешенства, и знаете ли, теперь тоже нередко хочется. Лучше бы тысячу раз «сыграть на руку» черным людям, которые от этого не стали бы чернее, чем так наглухо запереть все пути к среднему еврейскому интеллигенту, чем так упорно приучать его к забвению о себе самом и о долге самокритики. чем так обидно воспитывать в нем унизительное невнимание к себе и своему делу…
По существу предмета наши настроения зато вряд ли совпадают. Обсуждать, хороши или плохи евреи в чужих литературах, я не стану – это было бы уже спором, от которого я отказался. Замечу только, что дело совсем не в том, чувствует ли себя г. Тан. как сам утверждает, неразрывно привязанным к русской литературе или не чувствует. Г. Чуковский отнюдь и не собирался оторвать его или других от русской литературы: он только задал себе вопрос, велика ли польза русской литературе от этих неразрывных привязанностей, и пришел sine ira et studio к печальным выводам. Чтобы не прятать даже мимоходом своего мнения, прибавлю, что я с г. Чуковским совершенно согласен; прошу г. Тана не принять это с моей стороны за щелчок по его адресу – я его. г. Тана. кроме газетных статей, право, не читал и судить не могу: но вообще нахожу, что евреи пока ничего не дали русской литературе, а дадут ли много впредь – не ведаю. Однако не сомневаюсь, что против г. Чуковского был уже в печати, как водится, выдвинут длинный список «еврейских замечательных людей». блистательное доказательство наших великих заслуг перед отечеством и человечеством. «Рассвет» остроумно заметил, что в этих случаях докапываются чуть ли не до девиц, окончивших гимназию с золотою медалью. Таковых, слава Б-гу, немало, и честь Израиля нетрудно спасти, ибо мы люди маленькие и малым довольны. Заграницей наши онемеченные или офранцуженные братья чувствуют себя на вершинах радости, когда кого-нибудь из них в кои веки примут в высшем туземном обществе: они делают важные лица и говорят многозначительно: ого! А у нас однажды г. Горнфельд, я помню, печатно выразил свой восторг по поводу того, что «в одном рассказе Елпатьевского больше интереса к евреям, чем во всех сочинениях Успенского», – из чего явствует прогресс гуманности и благого просвещения. После этого почему же не удовлетвориться гордым сознанием, что нашего такого-то печатают в лучших журналах – так сказать, принимают в высшем туземном обществе? При малом честолюбии и на запятках уютно…
Если г. Тану или другим уютно в русской литературе, то вольному воля. Я, например, не только не стал бы их манить назад, но даже не выражу сомнения, точно ли так им уютно, как они рассказывают. Напротив, признаю и не сомневаюсь. Но я это иначе объясняю, иначе освещаю. Г. Тан объясняет свои родственные чувства к русской литературе, между прочим, и тем, что деды его захватили жаргон, проходя через Ахен, а ему, г. Тану, какое дело до Ахена? Это резон, но я советовал бы г. Тану употреблять его пореже и с осторожностью; ибо мы на своем пути прошли не только через Ахен, но и через Вильну. Киев, Одессу, отчасти через Петербург и Москву, и если мы начнем так небрежно отмахиваться от попутных городов, то нам с г. Таном могут со стороны предъявить вопрос: – Что это такое? Cuis regio, eius religio? Где переночевали, там и присягнули, а выйдя вон – наплевали? Эх, вы, патриоты каждого полустанка…
Я бы лично этого окрика не хотел, и потому предпочитаю не плевать на Ахен и не лобызать торцов Петербурга. Свои гражданские обязанности несу там, где я приписан и ем хлеб, и несу их корректно; в сердце же к себе я чужих людей не пускаю: в том. какой я город люблю и к какому городу равнодушен, никому давать отчета не желаю, и принципиально демонстрирую совершенно одинаковое благорасположение к Ахену и Москве. Будь у меня всамделишный свой город, я бы тогда стал говорить о любви: и это, быть может, была бы такая любовь, какою сорок тысяч людей на запятках любить не в силах. Но при нынешнем моем положении воздаю кесарево кесареву, а божию держу про себя. Исповедую лояльный космополитизм, и ни на сантиметр больше.
Самый же вопрос о жаргоне я беру не с точки зрения Ахена, да и вопрос о том, в какую литературу идти еврейскому писателю, беру не с точки зрения жаргона. С жаргоном я считаюсь потому, что на нем фактически говорит народ, и, следовательно, для того, чтобы работать в народе и с народом, надо работать и на жаргоне. Это ясно, как дважды два четыре, и совершенно при этом не важно, где, когда и из чьих рук мы подобрали это наречие. Но вопросом о языке еще не решается вопрос о том, куда идти. в какую литературу. Часть евреев (по переписи 1897 года три процента, теперь должно быть больше) вырастает, не владея жаргоном, и некоторым из этого числа очень трудно потом овладеть. Это большая помеха для работы в еврейском переулке, это заставляет писать по-русски, но писать по-русски еще само по себе не значит уйти из еврейской литературы.
В наше сложное время «национальность» литературного произведения далеко еще не определяется языком, на котором оно написано. Это ясно в особенности по отношению к публицистике. «Рассвет» издается на русском языке, но ведь никто не отнесет его к русской печати. Так же точно к еврейской, а не к русской литературе относятся наши бытописатели О. Рабинович и Бен-Ами, или поэт Фруг, хотя их произведения написаны по-русски. Решающим моментом является тут не язык, и с другой стороны даже не происхождение автора, и даже не сюжет: решающим моментом является настроение автора – для кого он пишет, к кому обращается, чьи духовные запросы имеет в виду, создавая свое произведение. Шутник может спросить, не относится ли в таком случае погромная прокламация «К жидам г. Гомеля» тоже в вертоград еврейской литературы: но если не оперировать курьезами и брать вопрос серьезно, то «национальность» литературного произведения в таких спорных случаях устанавливается, так сказать, по адресату. Если пишете для евреев, то много ли, мало ли вас прочтут, но вы остаетесь в пределах или хоть на окраинах еврейской литературы. Можно поэтому не знать жаргона и все-таки не дезертировать, а служить, по мере сил и данных, своему народу, говорить к нему и писать для него. Дело тут не в языке, а в охоте.
Я прекрасно понимаю, что нелегко требовать этой охоты от писателя, знающего по-русски. Он может писать для русской публики, это гораздо заманчивее – и аудитория неизмеримо больше, и жизнь шире, многообразнее, богаче. Искушение слишком велико. Оторваться от этого простора и сосредоточить свои мысли на переживаниях еврейства – это жертва, для некоторых и большая жертва. Из малороссов, одаренных сценическим талантом, большинство пока уходит на велокорусские подмостки, и причина та же: аудитория шире и культурнее, репертуар лучше. общественное признание куда серьезнее… Одного заметного столичного публициста недавно убедили стать во главе органа, посвященного еврейским интересам; и он через месяц ухватился за первый повод и ушел, высказавшись так: – У меня все время было такое чувство, точно я из громадного зала попал в чулан…
Не виню совершенно ни его, ни ему подобных: но с другой стороны нечем тут и гордиться. Человеческая мысль очень лукава и умеет раскрасить в багрец и золото какой угодно поступок; и в этих случаях она подсказывает уходящим из чулана красивые речи о том, что широкое лучше узкого, общечеловеческое (русское называется общечеловеческим) важнее национального, интересы ста миллионов с лишним важнее интересов пяти миллионов и так далее. Но все это пустые словеса перед тем фактом, что наш народ остается без интеллигенции и некому направлять его жизнь. Оттого я сказал, что иначе все это освещаю, в иную меру оцениваю, и могу вам назвать совершенно искренне, в какую именно меру. В грош я это оцениваю, эти раззолоченные узоры на халате дезертира, эти пошлости на тему об узком, широком и общечеловеческом, потому что это неправда. Если человек уходит из чулана в большой зал. значит, он пошел по линии своей выгоды, и больше ничего. Не поймите меня банально, я не говорю о денежной выгоде; но идти по линии своей выгоды значит идти туда, где человеку легче удовлетворить свои аппетиты и запросы, где атмосфера тоньше, среда культурнее, резонанс шире, подмостки прочнее и вообще все пышнее и богаче. Только потому они и уходят, и ничего нет в этом возвышенного, ибо всякий средний человек предпочитает Рим деревне и согласен даже быть в Риме сто пятнадцатым, лишь бы ходить по мрамору, а не по деревенской улице. Может быть, в том-то и дело, что только средние люди так рассуждают, и потому Бялик и Перец у нас, а в русской литературе подвизается г.Тан и еще не помню кто; но оттого народу не легче, если у него остаются генералы и нет офицеров, и дезертирство остается дезертирством. Я этим никого не ругаю, я человек трезвый и не вижу в дезертирстве никакого позора, а простой благоразумный расчет: на этом посту мне, интеллигенту, тяжело и тесно, а там мне будет легче и привольнее – вот я и переселяюсь. Вольному воля. Мало что в чулане осталась толпа без вождей и без помощи – ведь никто не обязан быть непременно хорошим товарищем. Счастливой дороги. Но не рядите расчета в принципиальные тряпки, не ссылайтесь на возвышенные соображения, которых не было и не могло быть у людей, что покинули нас в такой неслыханной бездне и перетанцевали на ту сторону к богатому соседу. Нас вы этими притчами не обманете: мы хорошо знаем, в чем дело, знаем, что мы теперь культурно нищи, наша хата безотрадна, в нашем переулке душно, и нечем нам наградить своего поэта; мы знаем себе цену… но и вам тоже!
Опять-таки настаиваю на прежнем: мой набросок получил оттенок беседы с г. Таном. и г. Тан может принять все это на свой счет. а мне бы не хотелось. Ей-богу, я в точности не знаю. перекочевал ли он или нет, говорю не о нем и вообще не о ком-нибудь, а так. Обмениваюсь личными настроениями. И раз это личное настроение, то хочу вам указать еще одну его деталь: нашу окаменелую, сгущенную, холодно бетонную решимость удержаться на посту, откуда сбежали другие, и служить еврейскому делу чем удастся. головой и руками и зубами, правдой и неправдой. честью и местью, во что бы то ни стало. Вы ушли к богатому соседу – мы повернем спину его красоте и ласке: вы поклонились его ценностям и оставили в запустении нашу каплицу – мы стиснем зубы и крикнем всему миру в лицо из глубины нашего сердца. что один малыш, болтающий по-древнееврейски. нам дороже всего того. чем живут ваши хозяева от Ахена до Москвы. Мы преувеличиваем свою ненависть, чтобы она помогала нашей любви, мы натянем струны до последнего предела, потому что нас мало и нам надо работать каждому за десятерых, по тому что вы сбежали и за вами еще другие сбегут по той же дороге. Надо же кому-нибудь оставаться. Когда на той стороне вы как-нибудь вспомните о покинутом родном переулке и на минуту, может быть. слабая боль пройдет по вашему сердцу. – не беспокойтесь и не огорчайтесь, великодушные братья: если не надорвемся, мы постараемся отработать и за вас.
1908
(Инциндент, наделавший в свое время много шуму, заключался в том, что два прогрессивных писателя – г-да Чириков и Арабажин – высказали в одном кружке взгляды, которые были потом в печати истолкованы как протест против наплыва евреев в русскую литературу)
I. ДЕЗЕРТИРЫ И ХОЗЯЕВА
Из всей обстановки любопытного случая, разыгравшегося на чтении новой драмы г. Шолома Аша, и из всех разговоров, которые затем последовали, неопровержимо вытекает одна неприятная правда: что г. Чириков высказал коллективные мысли. Об этих щекотливых предметах наши соседи, по-видимому, уже давно шушукаются. Мы найдем, конечно, утешителей, которые станут божиться, по обыкновению, что г-да Чириков и Арабажин совершенно одиноки в своем образе мыслей; при этом случае кстати вспомнить, что г.Чириков не особенно талантлив, и даже его пьесу «Евреи» не пощадят, а г-на Арабажина, который мало известен, и совсем низведут до нуля; и получится, как всегда, что только нули осмеливаются ворчать против евреев, а «лучшая часть интеллигенции неизменно стоит за нас». Что и требовалось доказать. Но неприятная правда всетаки в том, что г.Чириков высказал общие мысли, и это в его лице русская интеллигенция начинает показывать коготки. Насколько талантлив г. Чириков. предоставляю судить тем счастливцам, которые читали этого писателя: я, кроме «Евреев», никаких плодов его пера не вкушал. Но если правду говорят, что г. Чириков и по таланту, и по всем другим качествам посредственность, то тем характернее этот выпад.
«Инцидент», наделавший в свое время много шуму, заключался в том, что два прогрессивных писателя – г-да Чириков и Арабажин – высказали в одном кружке взгляды, которые потом были в печати истолкованы как протест против наплыва евреев в русскую литературу.
Тут перед нами. очевидно, человек как все, т.е. самый ценный тип для изучения массовой психологии: в свое время, когда надвигалась весна и «все» были добродушно настроены, он от чистого сердца написал юдофильскую пьесу, а теперь, когда «все» начали морщиться, он опять-таки от чистого сердца запретестовал против нашествия кашерных блюд на стол русской литературы. Тогда действовал без умысла и теперь инстинктивно отражает свою среду. И столь же симптоматично выступление г. Арабажина. Большая публика, особенно еврейская, совсем его не знает. и потому надо ей сказать, что это один из тех людей, которые всю жизнь ужасно заботятся, как бы не подмарать и не подмочить свою передовую репутацию. В этой заботе чуть ли не главный момент их политической психологии. В свое время г. Арабажин редактировал «Северный Курьер», выступивший в защиту евреев после скандала с «Контрабандистами». Теперь он. хотя с оговорками, осторожно, копчиком мизинца, поддержал г. Чирикова в том смысле, что вот, действительно, есть и такое мнение, и хотя мое дело сторона, а вы, евреи, все-таки приутихните. «До сих пор вы имели дело только с отбросами общества. теперь будете иметь дело с настоящей русской интеллигенцией», предсказывает г. Арабажин. И будьте уверены – раз г. Арабажин об этом говорит, значит об этом уже можно говорить: отлучение от передового лагеря не последует. Люди этой категории выступают только тогда, когда чувствуют за собою молчаливый мандат многих. Конечно, г да Чириков и Арабажин люди не крупные, но ведь никогда первачи не бывают застрельщиками, и никогда не только генералы, но и вообще большие люди не бегут перед полком, отправляющимся в поход. Впереди бежит. обыкновенно, городское отрочество и вообще элементы менее ценные и зато более подвижные, а настоящая серьезная сила идет сзади, и, быть может, не сейчас.
В данном случае даже очень вероятно, что не сейчас. Политический момент все-таки неудобен для открытого разрыва между русской передовой интеллигенцией и евреями. Главные органы передовой печати постараются замять всю эту историю (они упорно молчат о ней), а потом и в еврейской среде подымут голос утешители, оправившиеся от ошеломления, и запоют старую песню, что все обстоит благополучно, – старую песню, приниженную, льстивую, неискреннюю, – старую песню, на которую не стоит отвечать, ибо авторы ее лгут и сами знают, что лгут и что никто им не верит. А под шумок этих успокоительных заверений будет делаться тихое, незаметное дело: все те отрасли русской умственной жизни, которые теперь «заполнены» евреями, начнут потихоньку избавляться от этого услужливого, дешевого, но непопулярного элемента. Лозунг «judenrein!» проникнет понемногу и в передовую прессу, и в издательства, и в передовой театр; для этого совсем не потребуется, чтобы во главе учреждений стали антисемиты – напротив, найдутся и еврейские редакторы или антрепренеры, даже некрещеные, которые, считаясь с настроением потребителя, сами позаботятся об уменьшении процента евреев. Создадутся вполне приличные литературные общества, куда евреям будет затруднен доступ, конечно, в самой благородной форме, без подчеркиваний, без явного антисемитизма. Вообще до антисемитизма, в грубом смысле этого слова, у передовой интеллигенции дело еще не скоро дойдет, а просто захочется ей пока по быть наедине с собою, без постоянного еврейского свидетеля, который слишком акклиматизировался. чувствует себя чересчур по-домашнему, во все вмешивается, всюду подает голос…
Что этот процесс вытеснения евреев из последних убежищ некогда неудержимо начнется, можно предсказать без всякой робости. Лично я предсказываю это не только без всякой робости, но и без всякого сожаления. Реальной потери для еврейства тут не предвидится, кроме той, что несколько сот душ из еврейского умственного пролетариата останутся без заработков. Но что значат несколько сот душ при нашей повальной нищете? А больше ничего, кроме хлеба для нескольких сот душ, эта еврейская эмиграция в русскую литературу, прессу и театр нам не давала. Популяризация наших Игреков и Имяреков не принесла нам никакой пользы, кроме разве той, что расшатала в русской публике предрассудок о поголовной талантливости евреев. Популяризация Шолом Аша привела только к тому, что он (а за ним и другие жаргонисты) стал писать не для нас, а для них. Да достаточно характерен и тот мелкий факт, что на первую читку новой пьесы г. Ш.Аша приглашаются рецензенты всех русских газет и ни одной души от еврейских изданий. В этом вся писательская психология нашего поэта, пригретого на русском рынке. А меньше всего дала нам эта эмиграция на русский рынок в смысле политическом. Передовые газеты, содержимые на еврейские деньги и переполненные сотрудниками-евреями, до сих пор, несмотря на все наши вопли, игнорируют еврейские нужды и молчат в ответ на юдофобскую травлю. Очевидно, даже при обилии евреев свято соблюдается принцип – не портить русских газет еврейскими темами, и сами еврейские сотрудники и редакторы ничего против этого правила не имеют. Обидно, конечно, если в награду за такое бескорыстное самозабвение им теперь начнут постепенно указывать на дверь. Но что теряет еврейство, если в русской печати не будет этих людей, которые пальцем о палец не ударили в его защиту в эту эпоху неслыханной травли? Ничего не теряет, ни одного заступника, ни одного учителя.
Мы, настаивавшие всегда на концентрации национальных сил, требовавшие, чтобы каждая капля еврейского пота падала на еврейские нивы. – мы только со стороны можем следить за развитием этого конфликта между нашими дезертирами и их хозяевами, – со стороны, как зрители, в лучшем случае безучастно, в худшем случае с горькой усмешкой. Щелчок, полученный дезертирами, нас не трога ет, и когда он разовьется даже в целый град заушений, – а это будет, – нам тоже останется только пожать плечами, ибо что еврейскому народу в людях, которых высшая гордость была в том, что они, за ничтожными исключениями, махнули на него рукою?
Мы не видим повода горевать. Не видим и повода изумляться. Во всем этом нет для нас ничего нового. Когда евреи массами кинулись творить русскую политику, мы предсказали им, что ничего доброго от сюда не выйдет ни для русской политики, ни для еврейства, и жизнь доказала нашу правоту. Теперь евреи ринулись делать русскую литературу, прессу и театр, и мы с самого начала с математической точностью предсказывали и на этом поприще крах. Он разыграется не в одну неделю, годы потребуются для того. чтобы передовая русская интеллигенция окончательно отмахнулась от услуг еврейского верноподданного, и много за эти годы горечи наглотается последний: мы наперед знаем все унизительные мытарства, какие ждут его на этой наклонной плоскости, конец которой в сорном ящике, и по человечеству и по кровному братству больно нам за него. Но не нужен он ни нам, ни кому другому на свете. вся его жизнь недоразумение, вся его работа – пустое место, и на все приключения его трагикомедии есть у нас один только отзыв: туда и дорога.
II. АСЕМИТИЗМ
Некоторые органы большой передовой прессы Петербурга решили, очевидно, совсем замолчать случай с г-дами Чириковым и Арабажиным. Это можно было предвидеть заранее. В эпоху ассимиляции немецких евреев кто-то пустил в обращение следующую формулу: лучший способ проявить юдофильство. это – не говорить ни слова ни о евреях, ни об их противниках. Лучший ли, не знаю, но, несомненно, удобнейший способ. В нравы и традиции русской печати ввела его почтенная и заслуженная московская газета, декан и образец русского прогрессизма. Эта газета выдвинулась в эпоху самой отчаянной травли еврейского племени и стойко молчала в течение 25 лет на сию щекотливую тему: не обмолвилась ни одним звуком ни о евреях, ни об их литературных гони телях. Пример не остался без подражателей, и с тех пор замалчивание считается высшим шиком прогрессивного юдофильства. Такой шик задают теперь «Наша Газета» и «Речь» по поводу чириковского при ключения. Как раз в тех кругах, которые весьма близки обоим редакциям, об этом случае говорят очень много, а обе газеты молчат и, несомненно, думают, что у них это выходит очень эффектно и многозначительно: сама, дескать, истина молчит нашими устами!
С последним я вполне согласен и даже попытаюсь разобраться в таинственном содержании этого мно гозначительного безмолвия. В самом деле, о чем мол чит истина устами почтенных органов? Что знаменует их немота в этом случае?
Но тогда надо начать с другой догадки: что знаменует самый случай, каков его общественный смысл? Московские газеты дают бесхитростный и грубоватый ответ: культурный антисемитизм. Кто-то как-то предсказывал, что вместо д-ра Дубровина восстанет у нас когда-нибудь д-р Люэгер, и это будет куда пострашнее; и вот московские газеты полагают, что момент уже близок, и гг. Чириков и Арабажин возве стили скорое пришествие нового д-ра Дубровина, в исправленном и очищенном издании.
Вряд ли оно так. Прежде всего надо заступиться за гг. Чирикова и Арабажина: когда они уверяют, что ничего антисемитского не было в их речах, то они оба совершенно правы. Из-за того, что у нас считается очень distingue помалкивать о евреях, получилось самое нелепое следствие: можно попасть в антисемиты за одно слово «еврей» или за самый невинный отзыв о еврейских особенностях. Я помню, как одного очень милого и справедливого господина в провинции объявили юдофобом за то, что он прочел непочтительный доклад о литературной величине Надсона. Когда г. Чуковский констатировал тот неопровержимый факт, что евреи, подвизающиеся в русской изящной литературе, ничего стоящего ей не дали, очень недалеко было от того, чтобы и г. Чуковского ославили антисемитом. То же самое теперь с г. Чириковым. Хороши или плохи русские бытовые пьесы последних лет. я судить не берусь: но г. Чириков совершенно прав, когда говорит, что глубоко прочувствовать их может только русский, для которого Вишневый Сад есть реальное впечатление детства, а не еврей. Если бы г. Чириков сказал: «а не поляк». никто бы в этом не увидел ничего похожего на полонофобию. Только евреев превратили в какое-то за претное табу, на которое даже самой безобидной критики нельзя навести, и от этого обычая теряют больше всего именно евреи, потому что. в конце концов, создается такое впечатление, будто и самое имя «еврей» есть непечатное слово, которое надо пореже произносить…
Кого особенно несправедливо обижают, это г. Арабажина. Если оставить в стороне его выпады в печати против сионизма, которые не стоят внимания прежде всего потому, что г. Арабажин в этом вопросе некомпетентен, то именно он уж совсем ничего греховного не сказал. Он и вообще (судя даже по тем пересказам, против которых он печатно протестует, и тем более по его собственной передаче) не выразил в этом споре никаких собственных взглядов. Он только констатировал, что настроение, звучавшее в словах г. Чирикова, свойственно не одному лишь последнему, а имеет или может иметь сторонников в кругах, прикосновенных к русской литературе и русскому театру. Г. Арабажин сделал даже оговорку, что лично он этого настроения не разделяет, но что оно все-таки есть, и он считает долгом обратить на это серьезное внимание товарищей-евреев. Может быть, все это было высказано им и г. Чириковым в более мешковатой форме (нельзя же забывать, что спор был в частной товарищеской компании, где половина собравшихся друг с другом на ты), но по существу ничего антисемитского, реакционного и по всем прочим статьям преступного эти нашумевшие речи не содержали. Одно только в них было: симптоматическое.
Именно с этим всего неохотнее согласятся юдофилы-замалчиватели. С их точки зрения уж лучше записать гг. Чирикова и Арабажина в список отлученных от прогресса, чем признать, что в речах этих писателей звучал смягченный отголосок некоего общего настроения, пробивающего себе дорогу в среднем кругу передовой русской интеллигенции. Спорить тут невозможно, документальных доказательств не добудешь – наличность такого настроения можно установить пока только на ощупь, и не всякий захочет признаться, что уловил в других или в самом себе нечто подобное. Но если быть искренним, то ведь ни для кого не тайна, что это так. Из всех бесчисленных толков, вызванных чириковским инцидентом, явственно звучал один общий мотив: «это» не новость, об «этом» уже давно и много поговаривают. Есть, конечно, люди, которые в таких случаях нарочно затыкают уши – и не только себе, но и другим, в том числе и заинтересованной стороне; и пойдет эта заинтересованная сторона доверчиво дальше по старому пути, не слыша надвигающегося грома, и потом будет захвачена врасплох. Это считается шиком прогрессивного образа мыслей, и ничего не поделаешь с людьми, которым такая тактика по вкусу. Я и не намерен их переубеждать. Пусть притворяются оглохшими и незрячими. А все-таки назревает какое-то облачко и невнятно доносится далекий, еще слабый, но уже неприветливый гул… Повторяю – то, что назревает в некотором слое русской интеллигенции, не есть еще антисемитизм. Антисемитизм очень крепкое слово, а крепкими словами зря не следует играть. Антисемитизм предполагает активную вражду, наступательные намерения. Разовьются ли эти чувства когда-нибудь в русской интеллигенции, предсказать нелегко: но пока до них еще, во всяком случае, далеко. То, чем веет теперь. чем так сильно пахнуло из-за завесы, чуть-чуть приподнятой гг. Чириковым и Арабажиным, то не антисемитизм, а нечто отличное от него, хотя родственное и, быть может, служащее предтечей антисемитизму. – Это асемитизм. В России это слово мало известно, зато за границей, где куда лучше знают толк в разных оттенках жидоморства, оно давно в ходу. Это не борьба, не травля, не атака: это – безукоризненно корректное по форме желание обходиться в своем кругу без нелюбимого элемента. В разных профессиональных сферах оно разно проявляется. В сфере литературно-художественной, с которой у нас «началось», оно приняло бы форму такого рассуждения: я пишу свою драму для своих и имею право предпочитать, чтобы на сцене ее разыграли свои и критику писали свои. Этак мы лучше поймем друг друга.
Если хотите, не вижу в этом еще невнятном веянии ничего нового. Ново только, что об этих вещах начинают говорить: прежде считалось, что «эти вещи» сами собою понятны, вслух о них не болтали и просто осуществляли асемитизм на практике. И не со вчерашнего дня, а искони. Ибо что есть двадцатипятилетнее величавое молчание «Русских Ведомостей»? Что есть теперешнее молчание передовых органов? Вот уже пять лет прошло с кишиневского погрома; за это время Россию наводнили книжками и, листками, проповедующими племенную резню, десятки уличных газет разносят по всем углам зажженную паклю ненависти к евреям; чуть ли не вся идеология реакционного движения сводится к этой ненависти, казалось бы, уже хоть потому, если не из рыцарской потребности заступиться за угнетенного, полагалось русской передовой печати бороться против этой пропаганды. Русская передовая печать ничего в этом смысле не сделала. Да простится мне резкое слово: больше вбитых гвоздей я нашел в мертвых глазницах одной из жертв погрома в Белостоке. чем статей об этом погроме в русской передовой печати. Были постановления каких-то съездов, чтобы газеты энергично боролись с юдофобской пропагандой, и тоже не помогло. Не помогло даже изобилие сотрудников евреев: знаю по горькому опыту, что самое страстное желание поднять голос в защиту своей народности разбивалось, за кулисами даже самых смелых и боевых органов, обо что-то неуловимое и неосязаемое. Много интересного можно было бы рассказать на эту тему… Да к чему? Кто этого не знает? Теперь образовалось несколько издательств для борьбы с антисемитизмом; оставим в стороне вопрос, много ли могут они сделать: но любопытно то, что их руководители очень близко стоят к влиятельной передовой печати и хорошо понимают, что статья в распространенной газете гораздо полезнее брошюры, которая Бог весть еще попадет ли в настоящие руки. И, однако, они вынуждены возиться с этими брошюрами и не смеют мечтать о борьбе с пропагандой погрома через оппозиционную прессу. Почему?
Как-то я прямо задал этот вопрос руководителям одной редакции и выжал после множества уклонений такой ответ: нас читает интеллигенция, а она в таких поучениях не нуждается. Было это в 1906 году. Хорошо. Но теперь у нас 1909 г. Что-то новое начинает прокрадываться в русскую интеллигентскую психологию. Если и правда, что тогда русская интеллигенция была иммунизирована от юдофобских предрассудков, то хватит ли у кого-нибудь отваги ручаться. что иммунитет сохранился и ныне?
О, да, очень многозначительно это безмолвие. Советую очень глубоко вдуматься в него читателя обеих национальностей. Твердой рукой подписываюсь под словами г. Арабажина: здесь есть предостережение и вам. и нам. Предостережение тем более серьезное, что поветрие, первые симптомы которого теперь нас так переполошили, далеко не такая новость на нашей улице, как это может показаться наивному. – ибо зародыши той асемитической тенденции, на которую так бесхитростно вслух указали гг. Чириков и Арабажин. давно молчаливо таились во всей тактике русской интеллигенции по одному из самых трагических вопросов российской жизни.
III МЕДВЕДЬ ИЗ БЕРЛОГИ
«Ныне отпушаеши», могут сказать г-да Чириков и Арабажин: подходит, кажется, момент, когда небо исполнит, наконец, заветное желание этих двух писа телей – их оставят в покое. Der Mohr hat seine Schuldigkeit gethan – der Mohr kann gehen.(Мавр сделал свое дело – мавр может уходить.) Не потому, чтобы инцидент был исчерпан: напротив. инцидент только начинает завариваться по-настоя щему, и, если не будет войны или чего-нибудь другого очень сенсационного, не скоро еще уляжется в газетах эта любопытная история. Но дело в том. что г-да Чириков, Арабажин, Аш, другой Аш и вообще все участники той знаменитой беседы вдруг отошли на второй план – их заслонили более крупные фигуры. На сцену выступили г-да Струве и Милюков и, как свойственно крупным фигурам, сразу взяли быка за рога и поставили точку над i. Пока перессорившиеся между собой совозлежатели мирной трапезы, отныне бессмертной в летописях еврейского дезертирства, обидчиво препирались на разных языках о том, какое кто слово сказал и какого не сказал, г-да Струве и Милюков просто перешагнули через это скаредное крохокопательство и перенесли вопрос на единственно стоющую почву. Они поняли, что дело совсем не в том, проштрафился или не проштрафился тот или другой маленький человек в ночь на такое-то число в частной квартире такого-то, – а важно установить только один момент: что тут было – случайная шальная пуля, залетевшая неведомо от куда, или первый, пусть и преждевременный, выстрел из сильного и уже недалекого от перехода в боевое настроение лагеря?
Мнение по этому вопросу г. Струве – не новость. В разгаре выборов во вторую Думу он заявил одному интервьюеру, что настоящий антисемитизм – интеллигентский – еще впереди. Было это напеча тано в газете «Русь» и. конечно, не удостоилось ни перепечатки, ни комментария в других передовых органах. Теперь г. Струве иными словами повторяет ту же мысль. Скрывать русское «национальное лицо» – «безнужно и бесплодно, ибо его нельзя прикрыть». А в чем оно состоит? Это – не раса. не цвет кожи и т.д., это есть «нечто гораздо более несомненное и в то же время тонкое. Это – духовные притяжения и отталкивания… Они живут и трепещут в душе». И в том числе – «сила отталкивания от еврейства в са мых различных слоях (!) русского населения фактически очень велика». Конечно, в области государственной с этими «отталкиваниями» считаться не следует, т.е. равноправие все-таки нужно дать. «Но государственная справедливость не требует от нас национального безразличия. Притяжения и отталкивания принадлежат нам, они наше собственное достояние, в котором мы вольны… И я не вижу ни малейших оснований для того, чтобы отказываться от этого достояния в угоду кому-либо и чему-либо»… «Я полагаю, евреям полезно увидеть открытое национальное лицо той части русского, конституционно и демократически настроенного общества, которая этим лицом обладает и им дорожит. И, наоборот, для них совсем не полезно предаваться иллюзии, что такое лицо есть только у антисемитического изуверства». Все это на печатано в газете «Слово» от 10 и 12 марта и ни в каких пояснениях и подчеркиваниях не нуждается. Но г. Милюков все-таки нашел, что маслом каши не испортишь, и не то с сокрушением, не то с иронией подливает (в «Речи» от 11 марта) свою толику масла: «Г-н Ж. может торжествовать: он выманил медведя из берлоги… добился того, что молчание кончилось, и то страшное и грозное, что прогрессивная печать и интеллигенция старались скрыть от евреев, наконец обрисовалось в своих настоящих размерах».
Впрочем, это еще сказано полуиронически, и в конце статьи идут, конечно, заверения, что означенное настроение у русской интеллигенции скоро прой дет. Но зато без всякой иронии и совершенно всерьез делается следующее, вполне новое и очень пикантное разоблачение: «Я тоже думаю, что старой русской интеллигенции, святой и чистой в своем блаженном неведении, наступил конец в России с началом новой политической жизни. Я тоже уверен, что многие жизненные утопии, созданные этой интелли генцией на почве той старой святости, скоро отомрут, чтобы уже не возрождаться больше. Но я уверен также и в том. что наивный «асемитизм» и «антисемитизм», предъявляющий нам свои национальные права на существование, есть тоже один из последних пережитков (!) нашей блаженной интеллигентской невинности». Вот это, в самом деле, ново. «Пережитком» называется нечто такое, что уцелело со старых времен. Значит, и у старой русской интеллигенции, святой и чистой и пр. тоже имелись антиеврейские «отталкивания»? Значит, медведь-то давно сидел в берлоге? Любопытно. Вслух еще в этом никто не признавался, особенно никто столь авторитетный. А еще любопытнее то, что присутствие медведя в берлоге не мешает г. Милюкову аттестовать ту старую русскую интеллигенцию «святой и чистой», а «наивный асемитизм или антисемитизм» числится у него в списке настроений, созданных «на почве той старой святости». Очень у г. Милюкова мягкое отношение к медведю в берлоге. Это уже не в первый раз:
Мы еще помним его надгробную статью о Иоллосе, в которой даже верноподданные евреи из «Свободы и Равенства» усмотрели неосторожное обращение со словом «жид». Очевидно, в некоторых русских интеллигентах еще весьма живы пережитки старой чистоты и святости…
Итак, медведь выглянул из берлоги. Торжествует ли г. Ж., это мы оставим в стороне. По-моему, торжествовать ему нечего: к статье Струве сделано примечание, что она была написана и сдана до появления в «Слове» других статей на чириковскую тему. Никто медведя нарочно не выманивал, а сам он, повидимому, учуял в воздухе нечто родное и по собственной инициативе решил подать сочувственно голос. И эта собственная инициатива – еще один любопытный штрих для характеристики настроения. И вызывать не надо – сами откликаются!
После этого блестящего выхода первачей мы считаем окончательно выясненным основной вопрос, в котором для нас сосредоточен весь общественный смысл инцидента: вопрос о симптоматичности. Кому не противно, пусть и дальше разоряется на клятвенные заверения, что «ничего подобного нет». Г.Винавер в той же «Речи» от 13 марта все-таки предлагает и на будущее время еврейские услуги, согретые взаимной любовью, «именно любовью». На здоровье. Ласковый теленок двух маток сосет. Предоставляем г. Винаверу и прочим ласковым людям прожить мафусаиловы годы в этой курьезной позиции, когда они, заглядывая пану в очи, умильно говорят: «а все-таки вы нас любите!» – а г-да Струве и Милюков отвечают: – «Мм… не очень». – Для нас спор в этой части исчерпан. Да в сущности, и для возражателей наших, особенно из евреев, дело так же ясно, как и для нас. Все они про себя знают и с глазу на глаз сознаются, что медведь давно начал ворочаться в берлоге и, того и гляди, высунет морду. Лицемерием, неискренностью, малодушием и искательством пропитана их ласковая декламация, и оттого она так непроходимо бездарна, и нет в ней даже пафоса умелой лжи. Люди сами себе не верят и почти вслух говорят, что не верят, и им никто не верит. Что же с вами спорить? Ступайте себе с миром дальше и повторяйте in's Blaue свои казенные слова.
Гораздо искреннее те публицисты из «Новой Руси» и «Нашей Газеты», которые простодушно спрашивают: «своевременно ли? Не лучше ли раньше вместе решить общегосударственную задачу?» – Это мы понимаем. Это, по крайней мере. практическая постановка вопроса. И нельзя не согласиться, что правда, действительно, несвоевременна – с русской точки зрения. Ибо одно из двух: раз медведь выглянул, надо или бороться с ним. или признать его полно правным гостем. Бороться? Это значило бы открыть свои газеты для систематической защиты еврейского равноправия, для систематического отпора на юдофобскую травлю. Мерси боку – только этого, в самом деле. и недоставало почтенным газетам, на кото рых и так стопудовым бременем тяготеет подозрение в недостаточном «асемитизме». А признать медведя тоже неудобно. Гораздо удобнее было бы сохранить до поры до времени старую иллюзию, что в «святом и чистом» климате этой прекрасной страны зоологический вид ursus judaeophagus intellectualis вообще не водится…
Но это с русской точки зрения, да еще с точки зрения еврейской прислуги русского чертога. Мы благо дарим за любезное приглашение идейно приютиться в той же людской и через ее стекла выглядывать на Божий свет. благодарим за столь лестное мнение о нашей готовности к собачьему самозабвению. – но честь эту решительно от себя отклоняем. Мы прекрасно понимаем, что для вас удобнее сохранить блаженное неведение до дня. когда будет решена общегосударственная задача. – потому что оно вас ни к чему не обязывает и сохраняет к вашим услугам всю полноту усердия и расторопности верноподданного Израиля; а когда общегосударственная задача будет решена и медведя, наконец, выпустят на волю. – тогда вы-то ровно ничего не потеряете. Но мы? Нам тоже полезно не видеть и не слышать? Нам тоже полезно удариться в славянофильство и грезить, что хорошо нам знакомый зоологический экземпляр. вдоволь посвирепствовавший в самых культурных заграницах, – только здесь, только в этой обетованной стране, только у этого богоизбранного русского народа почему-то не родится? Нам тоже выгодно будет, если, одураченные этой грезой, мы доверчиво разоружимся, распустим свою моральную самооборону, заложим и перезаложим в ваших ломбардах все свои ценности, – и тогда, в один прекрасный день, вы с душевным прискорбием объявите нам. что медведя не устерегли и он, к глубокому вашему сожалению, вырвался из берлоги? Нет. милостивые государи, не тогда, а теперь должны вы выложить на стол все, что у вас за душою: и кто бы ни выболтал нам эту правду, – ваши илоты, как это было до сих пор, или ваши дураки, как это случилось недавно. или ваши разумники, как это происходит в последнем фазисе, – мы ставим и будем ставить каждое лыко в строку, и кричим глупому старому еврею, что зажмурил глаза и идет, улыбаясь до ушей. приложиться к панской ручке: – помни о берлоге!
Много характерного проглянуло в этой истории. но всего характернее этот резон о несвоевременности. Никогда еще эксплуатация народа народом, не заявляла о себе с таким невинным цинизмом…
IV РУССКАЯ ЛАСКА
…Ко мне постучался презренный еврей…
Пушкин.
И пошло! В учебнике сказано, что тихая стоячая вода может остыть иногда ниже нуля не замерзая, но достаточно бросить в нее камень, чтобы она мгновенно покрылась льдом. Это часто наблюдается и в делах человеческих. Теперь имеем случай любоваться этим занимательным явлением природы по милости инцидента с «национальным лицом». На днях еще за стыд и срам считалось русскому интеллигенту выго ворить этакое слово без презрительной гримасы, а теперь даже такая заскорузлая, стерилизованная не винность, как «Наша газета», через номер усердно склоняет и спрягает «национальные» словеса. И оказывается, что они, видите ли, всегда дорожили национальными моментами, всегда понимали, что правильное национальное чувство есть вещь безупречнопрогрессивная, и чуть ли не за то, главным образом, и серчали на русское начальство, что оно унижает национальное величие! Поистине трогательное открытие. Кто подозревал о присутствии такой контрабанды под спудом, а особенно в «Нашей газете», в этом классическом образчике русско-интеллигентской передовитости, в этом бесполом органе строго выдержанного направленчества без направления, в этом щепетильно отгороженном и чистенько подметенном пустом месте, на котором группа тщательно подобранных бесцветностей, не моргая, при всем честном народе смотрит тебе в пуп? Такая была идеальная тихая и стоячая вода, но, видно, крепко прохватило ее окружающей температурой; попал в нее камень, да еще брошенный неумной и, может быть, нетрезвой рукою, – и пошло!
Многих из нас это ошеломило – потому что мы плохие наблюдатели. Конечно, тот тонкий слой, который носит имя передовой русской интеллигенции и задает искони тон в печати, до последнего времени просто не интересовался своей великорусской национальностью, как здоровый человек не интересуется своим здоровьем, особенно когда у него других хлопот полон рот, хата не топлена и сквозь крышу небо плачет. Сытый кашей каши не просит, особенно когда у самого сапоги просят каши. Но мы, по еврейской нашей склонности подчеркивать и размалевывать, а еще больше по надобности оправдать ассимиляцию, прицепили к этой особенности русского интеллигента бесконечный хвост распространительных толкований. Из настроения, обусловленного только национальной сытостью великоросса, мы сделали чуть ли не элементарную черту его характера: мы шумели на разные лады, что именно русские, не в пример немцу и всякому другому бусурману органически на «это» не способны, что им от роду присуще некое вселенское начало и отменно теплые чувства по всем направлениям, без различия веры и племени. И, как всегда, мы самих себя гипнотизировали своим шумом и победоносно пролетали мимо самых ярких фактов, не удостаивая на них оглянуться. Даже мимо погромов попробовали сгоряча проскакать без оглядки, свалив всю беду на подстрекателей сверху и «отбросы общества» снизу, как будто оглушительный успех подстрекателей сам по себе не характерен для данной среды, или как будто отбросы не характерны для выделяющего их организма. Но был еще факт, мимо которого мы пробежали с зажмуренными гла зами; и даже не мимо него. а насквозь, проникая внутрь и ничего не замечая, глядя и не видя. смакуя и не чувствуя дегтя, анализируя тонкости и не натыкаясь на оглоблю. Этот факт – русская литература. та самая, что со времен еще Радищева славила свободу и милость к падшим призывала, та самая, что так сильно проникнута идеями подвига и служения? та самая, которая устами своих лучших ни одного доброго слова не сказала о племенах, угнетенных под русскою державой, и руками своих первых пальцем о палец не ударила в их защиту; та самая, которая зато руками своих лучших и устами своих первых щедро обделила ударами и обидами все народы от Амура до Днепра, и нас больше и горше всех.
На днях праздновали юбилей Гоголя, и немало евреев использовали, конечно, этот случай лишний раз «поплясать на чужой свадьбе». Должно быть. в некоторых еврейских училищах черты устроили и еще устроят после каникул гоголевские торжества, учитель русского языка скажет прочувствованное слово, учитель физики покажет в волшебном фонаре картинки из «Тараса Бульбы», а потом ученики или ученицы, картавя, пропоют перед бюстом: «Николаю Васильевичу сла-а-ва». И девяти десятым из устроителей и участников не придет в голову задуматься, какова с нравственной точки зрения ценность этого обряда целования ладони, которой отпечаток горит на еврейской щеке: не придет в голову, какой посев компромисса, бесхарактерности, самоунижения забрасывается в сознание отрочества этим хоровым поклоном в ноги единственному из первоклассных художников мира, воспевшему, в полном смысле этого слова, всеми красками своей палитры, всеми звуками своей гаммы и со всем подъемом увлеченной своей души воспевшему еврейский погром.
Стоило бы, может быть, в честь юбилея тут переписать слишком забытые несколько страниц из того же «Тараса Бульбы». Ничего подобного по жестокости не знает ни одна из больших литератур. Это даже нельзя назвать ненавистью, или сочувствием казацкой расправе над жидами: это хуже, это какоето беззаботное, ясное веселье, не омраченное даже полумыслью о том, что смешные дрыгающие в воздухе ноги – ноги живых людей, какое-то изумительно цельное, неразложимое презрение к низшей расе, не снисходящее до вражды. Стоило бы процитировать, да не хочется. Все равно, кому нужно усердствовать, тех не остановишь. Нет такой хитрой преграды, чтобы под нею не прополз кабцан, которому дали входной билет погреться у людей на солнышке. И не хочется еще потому, что нет никакой причины останавливаться на одном Гоголе, делать выписки из него и не делать выписок из его братьев по этой великодушной литературе. Чем он хуже их, и чем они лучше?
Веселая картина получится, если взять и на память, не выискивая, не докапываясь, просто, как го ворят репортеры, au hazard подсчитать ласку, что мы видели в разные времена от разных великанов русского художества. Для Пушкина понятие еврей тесно связано с понятием шпион (это в заметке о встрече с Кюхельбекером). В «Скупом рыцаре» выведен еврей-ростовщик, расписанный всеми красками низости, еврей, подстрекающий сына отравить папашу – а яд купить у другого еврейчика, аптекаря Товия. У Некрасова «жиды» на бирже уговаривают проворовавшегося русского купца: «нам вы продайте паи, деньги пошлите в Америку», а сам пусть бежит в Англию:
«На катере – К насей финансовой матери. И поживайте, как царр!» Так говорили жиды –
Слог я исправил для ясности…
У Тургенева есть рассказ «Жид», неправдоподобный до наивности: читая, видишь ясно, что автор нигде ничего подобного не подсмотрел и не мог подсмотреть, а выдумал, как выдумывал сказки о призраках, – и что выдумал, и с каким чувством нарисовал и раскрасил! Старый жид. конечно, шпион, а кроме того. продает еще офицерам свою дочку. Зато дочь. конечно, красавица. Это понятно. Нельзя же совсем обездолить несчастное племя. Надо ж ему хоть товар оставить, которым он мог бы торговать.
По Достоевскому – от жидов придет гибель России. Это, казалось бы, давало жидам известное право на внимание: однако ни одного цельного еврейского образа у Достоевского нет. насколько сейчас могу припомнить. Но если правда, что битый рад. когда бьют и соседа, то мы можем утешиться, припоминая польские типы Достоевского, особенно в «Карамазовых» и в «Игроке». «Полячок» – это обязательно нечто подлое, льстивое, трусливое, вместе с тем спесивое и наглое: и даже те затаенные в польской душе надежды, к которым самый заклятый враг должен отнестись с уважением, о которых сам Бюлов. защищая враждебный полякам закон, говорил недавно в рейхстаге с шапкой в руках. – коробит и вспоминать. какой желчной слюною облиты эти надежды разгромленного народа у тонкого, многострадального автора «Карамазовых».
Чехов? Еврейские критики ужасно любят цитировать из «Моей жизни» мимоходом оброненную фразу, что библиотека провинциального городишки пустовала бы, если бы не девушки «и молодые евреи». Это глубоко трогает еврейских критиков, это им очень льстит, они в этом видят явную агитацию за беспроцентное допущение евреев к образованию. Добрый мы народ, и самая добрая наша черта, это – что и малым довольны… По существу же был Чехов наблюдатель, не ведавший ни жалости, ни гнева и не любивший ничего, кроме увядающей красоты «вишневого сада»; поэтому еврейские фигуры, изредка по падающиеся в «Степи», «Перекати-поле». «Иванове». написаны с обычным для этого художника правдивым безразличием. И с таким же правдивым безразличием нарисовал Чехов своего Иванова, одного из несчетных Ивановых, составляющих фонд русской интеллигенции, и с таким же правдивым безразличием засвидетельствовал, что Иванов, когда в дурном настроении, вполне способен обругать свою крещеную жену жидовкой. Но Чехов сам был во многих отношениях Ивановым, русским интеллигентом до мозга костей, и случилось и ему однажды выругаться по адресу жидовки. Тогда он написал свою «Тину». Это анекдот еще более нелепый и неправдоподобный. чем тургеневский «Жид», настолько пошлый по сюжету, что и двух строк не хочется посвятить его передаче. Где это Чехову приснилось? Зачем это написалось? – Так, прорвало Иванова, одного из несчетных Ивановых земли русской.
Кого еще назвать? Лескова? Н. Вагнера (КотМурлыка)? Из одних имен можно было бы составить длинное стихотворение, как у того французского поэта:
Jeannette, Nine, Alice, Aline, Leda, Julie –
Et j'en oublie…
Ничего в противовес этому списку не может назвать русская литература. Никогда ни один из ее крупных художников не поднял голоса в защиту правды, растоптанной на нашей спине. Даже в публицистике не на что указать, кроме одной статейки Щедрина и одной статейки Чичерина. В беллетристике нечем похвастать, кроме сладенького. нестерпимо-бездарного мачтетовского «Жида», да еще где-то за порогом художества красуется шедевр г. Чирикова. Те из нас. которые малым довольны, восторгаются еще «Судным днем» Короленко, ибо там доказано, что иной хохлацкий шинкарь еще прижи мистее шинкаря-еврея. Лестно. Если за это полагается мерси, то у Лескова есть гораздо более обстоятельные рассказы на тему о том, что хотя жид и мошенник, но румын еще того хуже. а русский помещик, купец и мужичок тоже не промах по части вороватости… Но ничего настоящего, ничего такого, что если не по силе, то хоть по настроению, по проникновению в еврейскую душу могло бы стать рядом с «Натаном Мудрым» или с Шейлоком, русская лите ратура не дала. Да и зачем такие высокие образцы: рядом у поляков есть Элиза Ожешко, есть знаменитый Янкель из «Пана Тадеуша», написанный Мицкевичем в то самое время, когда Пушкин малевал своего жида Соломона из «Скупого рыцаря»…
Не сомневаюсь: как всегда, найдется где-нибудь газетный пошляк, который во всем этом увидит ненависть к русской литературе. Если это случится, я возражать не буду – надоело спорить с пошляками. возиться с людьми внутренне недобросовестными. которые давно сами знают о своем банкротстве и еще все-таки зазывают бедную публику с ее нищенскими сбережениями к своему подгнившему прилавку. Между прочим, русскую литературу я очень ценю. включая и этого самого Гоголя, потому что литература должна быть прежде всего талантлива, и русская литература – далеко не в пример иным прочим отраслям русской национальной жизнедеятельности – этому условию удовлетворяет. Но вместе с тем надо помнить, что философию народа, его настоящую, коренную философию выражают не философы и публицисты, а художники, и в данном вопросе характер этой философии для всякого, кто не слеп и не глух, ясен без малейшей двусмысленности. Может быть, мало на свете народов, в душе которых таятся такие глубокие зародыши национальной исключительности. Мы проглядели, что родоначальная страница русской классической драмы – «Горе от ума» – насквозь пропитана обостренным националистическим чувством, до краев полна протестом во имя национальной самобытности, выходками против французско-нижегородской ассимиляции, проповедью «премудрого незнанья иноземцев». Мы проглядели, что Пушкин в разгаре таланта написал потрясающее по энергии и силе стихотворение «Клеветникам России», где трепещет подлинный нерв того настроения, которое в Англии теперь называют джингоизмом. Мы проглядели, что в пресловутом, и нас захватившем культе «святой и чистой» русской интеллигенции, которая-де лучше всех заграничных и супротив которой немцы и французы просто мещане, – что во всем этом славословии о себе самих, решительно вздорном и курьезном, гулко звучала нота национального самообожания. И когда началось освободительное движение и со всех трибун понеслась декламация о том, что «мы» обгоним Европу, что Франция реакционна, Америка буржуазна, Англия аристократична, а вот именно «мы», во всеоружии нашей неграмотности, призваны утереть им нос и показать настоящее политическое зодчество, – наша близорукость и тут оплошала, мы и тут не поняли, что пред нами взрыв непомерно вздутого национального самолюбия, туманящий глаза, мешающий школьни кам учиться уму-разуму у Европы, у Америки, у Австралии, у Японии, у всех, потому что все их обогнали.
Я говорю только о зародышах. Они еще надолго останутся зародышами. Несмотря на все призывы Струве, великорусскому национализму еще некуда и не во что развиваться, кроме как по черносотенной тропинке, по которой серьезная часть интеллигенции, должно быть, не пойдет. В национальном смысле у великоросса ни в чем нет недостатка, а напротив – в колоссальных доходах, которые приносит ему его национальная культура, большую роль играют инородческие подати, особенно еврейская. Кто сочтет, в какой мере хотя бы нынешние модные книгоиздательства обязаны своим ростом руссифицированному инородческому потребителю, и в первую очередь еврею? Русскому национализму не за что бороться – никто русского поля не занял, а на против: русская культура, бессознательно опираясь на казенное насилие, расположилась на чужих полях и пьет их материальные и нравственные соки. Для развития зародышей нет еще почвы, и она явится только в тот момент, когда среди народностей России подымется национальное движение всерьез, и борьба против руссификации проявится не на словах. как теперь, а в фактическом разрыве с великорусскою культурой. Мы тогда увидим, кто наши могучие соседи и есть ли у них национальная струнка, и тогда, может быть, лучше поймем некоторые забытые страницы из Некрасова, Пушкина и Гоголя.
НАШЕ БЫТОВОЕ ЯВЛЕНИЕ
Недавно по поводу одной моей газетной статьи я удостоился получить несколько писем от молодых людей, обиженных замечанием, что еврейские дезертиры, принимающие христианскую веру ради выгод, засоряют ту христианскую общину, к которой приписываются. Молодые люди находят, что это напраслина. Во-первых, они не дезертиры: «разве переход из иудейского вероисповедания в другое обусловливает собою переход в другую национальность?» Во-вторых, они ничего не засоряют. «Разве окроплявший нас водою священник водрузил нас тем на ниве своей общины? Нет, он нас только вписал в метрическую книгу. Что ж мы засоряем?» А в другом письме идут еще дальше: если дезертир даже «водружается» на чужой ниве, то он ее не только не «засоряет», а даже напротив – украшает: в доказательство цити руется несколько имен из книги Когута «Знаменитые евреи и еврейки». Вообще же молодые люди находят, что писать о них неделикатно: «существует круг таких явлений, которые являются делом личной совести и куда человек интеллигентный не должен залезать руками».
Это пишет одна сторона. А вот любопытный отклик с другой стороны: письмо одного популярного хулигана. Оно напечатано в «Земщине» и гласит:
«В главной палате русского народного союза имени Михаила Архангела почти ежедневно получаются письма от евреев на мое имя с просьбой:
«будьте мне крестным отцом – хочу креститься». Письма рву. взглянув на подпись жида, но на завтра новое. Сегодня получил такое: «Ваше высокопревосходительство! Я еврей г. Виннипы. Желая принять православие, имею честь покорнейще просить ваше высокопревосходительство стать моим крестным отцом. Бер Закс. 17 сентября 1910 г. Винница. Почтовая ул.. д.Шерра», – Вступать в какую бы то ни было переписку с жидами не намерен, посему, в целях сберечь время и бумагу тем, которые пожелали бы последовать примеру Закса, считаю нужным уяснить мою принципиальную точку зрения на этот вопрос и полагаю, что жидкам она будет ясна из следующей телеграммы, посланной мною в ответ юркому Заксу: «Винница, Почтовая ул., д. Шерра. Беру Зак-су. Для евреев крещение – вид гешефта: окончивший гимназию крестится, дабы попасть в университет, купец, чтобы устроиться вне черты оседлости, и так далее. Отказываюсь быть пособником неблаговидных поступков, предпочитая еврея некрещеного выкрестившемуся из-за побуждений, чуждых душевным запросам, а наличности таковых у евреев не имеется».
Конечно, мнение этого лица не может служить этическим мерилом: привожу его не как аргумент, а просто для характеристики настроений. Что и говорить. с пощечиной Полишинеля можно не считаться. Но да будет позволено напомнить по этому поводу старую басню Федра. Там изображен умирающий лев, к которому приходят разные звери, и каждый норовит его как-нибудь обидеть. И лев все терпит: но когда напоследок явился asinus, asini, второго склонения, и тоже лягнул в больное место, лев не выдержал и заплакал, сказав: «Твой пинок, о срам природы. усугубляет для меня горечь смерти». А уж на что лев – гордый зверь. Очевидно, во времена Федра еще полагали, что такой пинок – это уже самое последнее дело, предел надругательства. Но мы теперь умные, и предрассудки давно ликвидированы.
Предрассудки до того начисто ликвидированы. душа человека превращена в такое идеально гладкое, зеркально лысое пустое место, что сплошь и рядом чувствуешь себя беспомощным и безответным пред этой абсолютною плетью, где не осталось ничего со вчерашнего дня – ни одного раз навсегда вбитого гвоздя, ни одной глубоко вросшей былинки, ни тра диций, ни аксиом, ни простой брезгливости, даже ни чего похожего на доску с надписью: «здесь воспрещается». И когда вы пытаетесь напомнить, что все таки должно же быть на свете нечто воспрещенное, нечто такое, от чего сама собой отдергивается рука, вас огорошивают вопросом: А почему нельзя? – И вы вдруг постигаете, растерянный, что, в сущности, ответа у вас нет. Ибо есть вещи, которые доказать невозможно. И, как назло, жизнь так глупо устроена, что именно те щекотливые вещи. которые невозможно доказать, – именно они делают разницу между человеком порядочным и человеком покладистым.
Кто скитался за последние годы по так называемой «еврейской улице», тому хорошо знаком этот убийственный вопрос: «А почему нельзя?» Стал он раздаваться недавно. Прежде было совсем другое время: прежде, в эпоху подъема и до него было всем ясно само собою, что на человеке лежит некий долг и что не все ему дозволено: каждый понимал этот долг по-своему, но атмосфера некоторой нравственной дисциплины ощущалась повсюду, на каких угодно общественных задворках. И если кому уж приходилось нарушить эту дисциплину, сделать что-нибудь таког, чего совесть не позволяла, то он старался стушеваться, а не выступал гоголем на площади и не спрашивал: А почему бы нет? – но прошел подъем, и все это изменилось. Нравственная дисциплина лопнула, и значительная часть молодежи пустилась в погоню за своей долей, грациозно прыгая через какие угодно препятствия. При этом они держат голову гордо и высоко, пишут письма в редакцию и требуют: одно из двух – или докажи им осязательно, как дважды два, почему нельзя перепрыгивать через некоторые препятствия, или сними шапку, расшаркайся и признай их полноправными джентльменами.
Конечно, для себя, для своей души, каждый из нас хорошо знает, «почему нельзя». Когда мы себя об этом спрашиваем, то оглядываемся назад, и нашему духовному взору открывается картина, которая лучше всякого ответа. Перед нами расстилается необозримая равнина двухтысячелетнего мученичества; и на этой равнине, в любой стране, в любую эпоху, видим мы одно и то же зрелище: кучка бедных, бородатых, горбоносых людей сгрудилась в кружок под ударами, что сыплются отовсюду, и цепко держится нервными руками за какую-то святыню. Эта двадцативековая самооборона, молчаливая, непрерывная, обыденная, есть величайший из национальных подвигов мира, пред которым ничтожны даже греко-персидские войны, даже история Четырех Лесных Кантонов, даже восстановление Италии. Сами враги наши снимают шапку пред величием этого грандиозного упорства. В конце концов, люди забыли все наши заслуги, забыли, кто им дал единого Б-га и идею социальной правды; нас они считают изолгавшимся племенем, в душе которого ничего не осталось, кроме коллекции уловок и уверток, наподобие связки отмычек у вора: и если перед чем-нибудь еще преклоняется даже злейший из клеветников, если в чем-нибудь еще видит, не может не видеть символ и последний остаток великой, исполинской нравственной мощи, – это только в уцелевшей, ни на миг доселе не дрогнувшей способности страдать без конца за некое древнее знамя. В этом упорстве наша высокая аристократичность, наш царский титул, наше единственное право смотреть сверху вниз. И теперь, над могилами несметного ряда мученических поколений разорвать этот круг, распустить самооборону, выдать старое знамя старьевщикам? Что же нам останется? Как это мыслимо? Как это возможно?! – Так ощущаем мы, еще не ликвидировавшие предрассудков. Но ведь это ощущение, а не доказательство.
Не знаю, как другие, которые умнее меня, но я должен сознаться, что не все могу доказать. В 1907 г. пришел ко мне (было это в Одессе) один юноша, когда-то мой протеже, и изложил мне обычный в те дни план устройства личной жизни: он напишет банкиру такому-то письмо с требованием дать столько-то тысяч, а если не даст, то его подстрелят. Я возмутился, заволновался, стал его отговаривать, а он меня срезал вопросом:
– А почему нельзя? Докажите! И со своей стороны изложил мне свои аргументы. Он голодает, мать голодает… А банкир богат. И так далее – эту аргументацию все мы слышали, и у всех она жива еще в памяти. И сколько мы с ним ни спорили, верх оставался за ним, потому что по логике он был логичен, – а все-таки есть вещи, которые не доказываются.
Другие молодые люди пошли дальше. Они увидели, всмотревшись поглубже, что если «можно» экспроприировать у банкира, то «почему нельзя» у лавочницы предместья? Богатство – понятие относительное и гибкое. Богат для меня тот, кто в данную минуту богаче меня: если у лавочницы в кассе лежит 80 копеек выручки, а я голоден, она для меня богачка, и я имею полное право… А потом другие пошли еще дальше. Почему я для этого непременно должен быть голоден в грубом смысле слова, физически голоден? А если желудок мой полон, но душа голодна, если мне тоже хочется прифрантиться, сходить в театр. покататься с барышнями, то почему я должен страдать, за что должна увядать без блеска и радости моя молодость, когда один удачный налет может распахнуть предо мною всю полноту жизни? И опять приходилось разводить руками и молчать, не находя ответа. Потому что неприменима таблица умножения в социальных отношениях. Те молодые люди. что в памятную эпоху налетов срамили и топтали наше народное доброе имя, что хуже черной сотни с ее резинами терзали и разоряли нашу нищую массу, были, по большей части, ловкие диалектики и по таблице умножения очень искусно доказывали свою высшую правоту. Но в то же время настерпимый чад гнусной, неслыханной деморализации разливался от них вокруг, и было ясно, что, наперекор всякой диалектике. все-таки есть вещи недозволенные, и должна быть в человеке внутренняя брезгливость, которая без слов. непосредственно подсказывала бы ему, «почему нельзя». Этическое познается не рассуждениями, а ощупью, и в ком этого таланта ощупи нет – тот калека.
Бывают, конечно, калеки разной степени. Из примеров, которые приведены только что, не следует заключать, что я ставлю дезертиров на одну доску с кем-либо из перечисленных героев. Понятно, нет. Но. с другой стороны, я не награжден от Б-га и той снисходительностью, которая считает переход в чужую веру ради голой выгоды за нечто невинное. Думаю, что этот акт ясно и непреложно говорит о нравственной глухоте субъекта. И в особенности тогда, когда он совершается в наших здешних условиях, над поверженным и израненным телом затравленного, окруженного повсюду врагами и беззащитного российского еврейства.
В эпоху студенческих волнений был однажды такой случай. Десять студентов посадили в одну небольшую камеру: им было там невыносимо тесно, душно и грязно. Одного из них пристав знал, так как игрывал в карты с его отцом: он вызвал этого студента и предложил перевести его в камеру вестового.
– И вам будет удобнее, и товарищам все-таки легче. – сказал любезный пристав. Но студент отказался. Собственно говоря, почему было ему не согласиться? Ведь от него за то никаких «услуг» не требовали, и товарищам его отказ никакой видимой пользы не принес – напротив, если бы один выбыл, все же стало бы просторнее. Но студент отказался, потому что у него было этическое чутье. Он понял, или, вероятнее. просто почувствовал, что его переход на привилегированное положение, когда товарищи по беде остаются в яме, посеял бы в атмосфере какую-то неуловимую. невесомую деморализацию, которая гораздо ядовитее спертого воздуха. – То был маленький случай, и беда была сравнительно маленькая. Теперь мы стоим перед великим национальным горем, в глубокой яме копошатся не десять человек, а шесть миллионов, целая Португалия, две Норвегии, и вопрос о том, есть ли у нас это чутье невесомых преград, разрастается до размеров огромной национальной трагедии. Перед лицом этой трагедии человек, которому дано перо в руки, не имеет права считаться с личными переживаниями отдельных дезертиров. Он должен напомнить во всеуслышание старую истину, через которую вы слишком цинично преступили: что именно талант внутренней брезгливости, , именно чутье невесомых святынь и преград, создает то, что мы называем порядочностью, sittlicher Ernst и у кого в такую тяжелую эпоху медленной пытки, затяжного погрома не оказывается в наличности этого чутья, тот должен сам понять себе цену и не удивляться, если другие называют ее вслух.
Хочется говорить об этом как можно более сдержанно, и оттого главным образом приходится настаивать на невесомых моментах. Ведь с той стороны это – главный довод: «живя согласно со строгой моралью, я никому не сделал в жизни зла». Хочется напомнить людям, что если даже допустить, будто и в самом деле «никому не сделано зла», это еще само по себе далеко не отворяет двери в ту комнату, где у Б-га помещены джентльмены, – люди, которым можно доверять, люди, с которыми можно вместе страдать и которые не вылезут в окошко… Но, в конце концов, этот вечный припев каждого дезертира, что он «никому не сделал зла», тоже неправда.
Когда люди еще верили в Государственную Думу, в одном городе черты оседлости была выставлена кандидатура бывшего еврея, популярного местного деятеля. Националисты были против этого, и один из них сказал меткое слово: – Вам нужен в Думе человек, который отстаивал бы ваше равноправие. Так не посылайте в Думу человека, который сам является живым доказательством того, что можно великолепно обойтись и без равноправия.
Сейчас выборов нет, и больше о таких кандидатурах не слышно, и все эти безобидные молодые люди. которые «никому не делают зла», идут представительствовать о нас не в Думу, а на самое торжище жизни. Но тем глубже политическое влияние этого массового представительства, и мы, остающиеся в яме, еще учтем его плоды на своей шкуре. Ибо никогда еще мы не выпускали в мир с такой легкостью такого множества живых доказательств, что можно при желании обойтись и без равноправия. В Германии, например, уже давно знают, что «ренегатство, оказывая губительнейшее нравственное влияние, кроме того, еще тормозит борьбу германского еврейства за фактическое осуществление его политических и гражданских прав. Теперь, когда немецкое еврейство ведет упорную борьбу за свои конституционные права, ренегаты, добиваясь этих прав при помощи «Taufzettel», наносят общему делу еврейства непоправимый ущерб» (резолюция съезда германских еврейских деятелей в 1910 г.). Тем хуже положение в России. На глазах у врагов и равнодушных наша молодежь с такой легкостью меняет религию, что у зрителя возможен только один вывод: раз это так легко и просто, то, очевидно, те, которые этого не проделывают, далеко не так страшно угнетены, и особенно о них беспокоиться нечего. Этот вывод естественно складывается и оседает не только у врагов, но, что гораздо важнее, у равнодушных, т.е. именно в том кругу, от которого зависит дать перевес друзьям или врагам. Как, какими доводами, бороться тут за отмену еврейского бесправия, за создание выхода из ямы, когда нам ответят: позвольте, но ведь выход уже есть, и очевидно вполне для вас приемлемый! Как, какими словами отстаивать эмансипацию общины, из которой сотнями дезертирует ее «цвет», ее молодая интеллигенция, и самым фактом своего массового бегства кричит на всю Россию:
монастырь оставлен на вымирание, стоит ли о нем еще думать!
В конце концов все это выливается в подстрекательство к новому гнету. Светская власть, может быть, и не особенно рада этому новому устремлению строптивого племени и склонна его рассматривать (не без основания), как новый массовый «обход закона», новую «еврейскую уловку», по беззастенчивому цинизму превосходящую все прежние. Но ведь есть в России и духовная власть, очень влиятельная, в иные периоды даже всемогущая. Духовенство господствующей церкви нигде и никогда не оставалось безучастным к приросту своей паствы: призванное блюсти интерес церкви, оно всегда и всюду смотрело на такой прирост, как на явление положительное, и не особенно допытывалось о причинах и внутренних побуждениях, справедливо рассуждая, что, каковы бы ни были эти побуждения, во втором поколении от них не останется ни следа, а останется только чистый прирост… Так рассуждала и по сей день рассуждает господствующая церковь всюду на Западе и на Востоке. Как отнесется она в России к этому еще небывалому урожаю неофитов, предсказать не берусь. Но очень боюсь, что мы даем в могущественные, очень могущественные и принципиально враждебные нам руки сильнейший довод в пользу не только сохранения, но и усиления висящего над нами Гнета.
Зато молодые люди нас утешают, что «выход из религии не есть выход из национальности». Нация наша, значит, и впредь будет почтена их присутствием. Лестно. Но тут опять сказывается нечуткое резонерство. неспособность ощутить то важное, что невесомо. Говоря вообще, это – совершенно справедливый принцип: национальность сама по себе, а религия сама по себе. В дни свободы, когда мы еще мечтали о созыве «национального собрания», многие даже среди сионистов и националистов провозглашали, что «членом еврейской национальной общины является каждое лицо, признающее свою принадлежность к еврейской национальности, без различия вероисповедания». Но – нашим мечтам тогда рисовалась совершенно другая картина, чем то, что видим теперь. Нам рисовался большой праздник свободы, когда еврейский народ на радостях амнистировал бы старых дезертиров за старый грех, а впредь уже крещения могли бы происходить только по убеждению. Это было бы совсем, совсем другое дело. Перемена веры из внутреннего убеждения в превосходстве новой религии – это к чести человека, а не к стыду… Но когда эти сегодняшние молодые люди. только что ради голой выгоды с легкостью вальса увильнувшие от той круговой поруки, которой только и может нация держаться, милостиво предлагают и впредь числиться по нашему национальному списку – то уж это с их стороны любезность чрезмерная и излишняя. Нет уж. молодые люди, скатертью дорога, а нам в утешение останется умное слово Герцля: «мы теряем тех, в лице которых мы ничего не теряем».
«Выход из еврейской религии не обусловливает выхода из еврейской национальности»… Если эти молодые люди искренно так думают, то они горько обманываются. До сих пор уходившие из нашей религии уходили и из нашей национальности. И больше того: в Европе существует формула: «дед ассимилятор, отец крещен, сын антисемит». Это вполне естественно. У «отца» еще все-таки что-то теплое осталось в душе от воспоминаний детства, связанных с субботой, или хоть от слез матери в тот день, когда он пошел к священнику. Но уж у его сына не может быть ничего, кроме глухой досады на всех евреев за то. что его еще все-таки иногда поругивают Judenbubom'ом. Забыть о еврействе ему не дадут, любить еврейство он не может – остается одно: ненавидеть, и это одно с неизбежностью, в той или иной степени, повторится и в России. Еврейский народ не новичок в этом вопросе – он уже привык, глядя вдогонку уходя тему дезертиру, горестно думать о том, что, может быть, ровно через одно поколение новый камень с улицы ударится в его окошко. Кто знает, еще может быть, их дети некогда будут выселять из Киева наших детей.
Множество софизмов пущено теперь по улице, чтобы оправдать эту вакханалию бегства, и все софизмы гнилые и неискренние. Самый ходкий тот, что, мол, крестятся вовсе не «для голой выгоды», а ради науки. Это болтовня. Науку юридическую, философскую, историческую и т.п. можно получить в публичной библиотеке, и еще бесплатно. А науку медицинскую или инженерную можно получить заграницей, в крайнем случае голодая, как голодают тысячи наших юношей и девушек в разных Бернах и Женевах, предпочитающие мучиться, но не креститься. Крестятся ради диплома, т.е. ради выгоды, ради того, чтобы вести потом сравнительно привольную жизнь адвоката, инженера или врача, а не быть вынужденным (о, ужас!) пасть, например, до приказчика. Я понимаю, что страшно больно бросить посредине раз намеченное русло жизни, ликвидировать мечты: но если люди не чувствуют, что дезертирство – это еще страшнее, еще больнее, если изо всех тяжелых перспектив им представляется наиболее приемлемой именно та, которая для здорового чутья должна казаться самой ужасной – отступничество, то какое подыщешь имя, кроме нравственной глухоты? Да, наконец, разве только ради университета крестятся в наше просвещенное время? Больно перечислять в печати, пред чужими людьми, из-за каких пустяков это проделывается на каждом шагу… Ибо зачем терпеть даже малое неудобство, когда есть такой легкий выход, понимаете ли, такой легкий?! Эта легкость, необыкновенная, беспримерная, еще неслыханная в еврейской истории – это и есть главная особенность теперешней эпидемии, придающая последней совершенно своеобразный характер полного паралича высших этических центров. Где-то в яме копошатся шесть миллионов, голодают, стонут, рвут на себе волосы; сто тысяч ежегодно берут в руки посох, пробираются через границу, иногда без паспорта, под выстрелами, – едут на край света бороться за кусок хлеба, и все это для них оказывается легче, чем отступничество! Дураки – они еще не поняли, что отступничество-то легче всего…
При всем том эти молодые люди находят, что, пуская корни на новой ниве, они оную ничуть не «засоряют». Это дело вкуса, судить об этом, в конце концов, могут только сами новые единоверцы наших беглецов. Что-то, однако, не слышно, чтобы неофиты из евреев где-либо, в какой бы то ни было христианской общине слыли украшением. Еврейству, впрочем, все равно, как и где акклиматизируются те, которые от него уходят. Но что не «все равно» это самый факт, что нам, сидящим в яме, назначена премия за отступничество, и что в этом растлевающем сознании вырастает наша молодежь. В конце концов, ничего мудреного, если в ее душе развивается такая готовность к дезертирству по первому востребованию жизни. Она с детства знает – и ей не дают ни на минуту забыть, – что все запретное станет дозволенным, если только согласишься, с ложью в душе, поклониться чужим алтарям. Это сознание расшатывает характеры, ослабляет задерживающие центры. вытравляет нравственную брезгливость. А что может наша молодежь противопоставить этому соблазну? Из современного еврейского воспитания выброшено все, что могло бы закрепить в ее душе положительные связи с еврейством. Чуда нет, если в результате остается голая, плешивая, пустая душа. Пусть это иным покажется жестокостью, но, мне думается, лучше было бы российскому еврейству остаться совсем взаперти, без выхода, чем иметь перед собою этот один выход, эту развращающую перспективу уплаты наличными за самое отвратительное из лицемерии. Одно время долго держался слух, будто этих молодых людей так и не примут в университет. Сознаюсь, я бы очень мало этим огорчился. И еще менее огорчился бы, если бы это стало правилом, распространяющимся на все области полноправия. Ибо личная судьба нескольких «юрких Заксов» интересует нас, как прошлогодний снег: но для народа нашего, для подрастающих детей наших не было ли бы здоровее, если бы во мраке нашего бытия перестали мерцать эти тридцать серебренников равноправия, покупаемые таким путем…
1910.
ОБМЕН КОМПЛИМЕНТОВ. Разговор
Это был именно разговор, беседа, causerie: я в ней не участвовал, а сидел сбоку и слушал, и потому не отвечаю ни за доводы, ни за выводы. Тему беседовавшим лицам дала нашумевшая статья А.Столыпина о «низшей расе». Собеседников двое: один русский, другой еврей: оба мирно сидят за чаем и ласково беседуют о том, чья раса ниже.
– По-моему, – сказал еврей. – вообще нет высших и низших рас. У каждой есть свои особенности, своя физиономия, свой комплекс способностей, но я уверен, что если бы можно было найти абсолютную мерку и точно расценить прирожденные качества каждой расы, то в общем оказалось бы. что все они приблизительно равноценны.
– Как так? Чукчи и эллины равноценны?
– Я думаю. Поселите чукчей в условиях древней Эллады – и они, вероятно, дали бы миру свои ценности. Не те самые, какие дали миру греки, потому что у каждого народа свое, но все же ценности и, быть может, равноценные с эллинскими. Доказать это, конечно, не в нашей власти: я вам только высказываю свое убеждение, но зато уж это – глубокое убеждение. Я не верю в то, будто есть высшие и низшие расы. Все одинаково по-своему хороши.
– Странно слышать это именно из уст еврея. Вы, которые исторически смотрели на себя, как на племя избранное…
– Да, да, знаю этот довод. Я вам и больше скажу: после разрушения второго храма Титом еврейские мудрецы больше всего убивались именно о том, что Бог предал их в руки «умма шефела». «Умма шефела» значит буквально низшее племя. Понимаете, в их глазах римляне, блестящие римляне эпохи принципата, уже впитавшие в себя, кроме собственной культуры, изысканную ценность эллинизма, – были все-таки низшей расой. Но это доказывает только одно: что те мудрецы были ослеплены. И точно так же все новые теории о низших расах – продукт ослепления.
– Нет, я с этим не согласен. Конечно, А.Столыпин пересолил; это объясняется его личным горем, которое именно ослепляет; надо это понять и простить. Но все же и в другую сторону пересаливать нет надобности. Что все расы равноценны, это парадокс. Я мог бы сослаться на негров, которые живут в Америке рядом с белыми и все-таки не равны белым, на турок, которые устроили Стамбул на том самом месте, где арийцы создали Византию, и т.д. Но я считаю ваше общее положение, будто все расы равноценны, настолько парадоксальным, что даже не стану его опровергать. Вы не найдете пяти человек даже среди ваших единоверцев – вернее, особенно среди ваших единоверцев, – которые согласились бы с этим мнением. Оставим поэтому общий вопрос в стороне. Речь у нас шла о еврейской расе. Повторяю. Столыпин пересолил. Я не скажу, чтобы и с Чемберленом был вполне согласен, хотя это очень образованный и очень вдумчивый мыслитель. Я также не во всем согласен с вашим собственным Вейнингером. хотя и он приводит много поражающих, глубоких аргументов в подтверждение того, что еврейская раса, так сказать, неполноценна. Затем я читал кое-что и с вашей стороны – Гертца. который вообще отрицает расу. и нового писателя Цольшана, который считает еврейскую расу превосходной. Главное же. чем я интересуюсь, это жизнь, и вот вам общее впечатление, которое у меня осталось по этому вопросу из книг и из наблюдения жизни. Вы, несомненно, раса с какими-то крупными органическими духовными недочетами. (Вы понимаете, я не говорю об исключениях – есть очень почтенные евреи, я сам знаю идеальных людей из вашей среды: впрочем, и эти исключения можно объяснить случайным смешением крови; но тут не о них идет речь, вы понимаете).
– Понимаю, понимаю, не стесняйтесь, мы привыкли.
– И вот мое общее впечатление: вы раса безусловно неполноценная. Полноценной я называю расу творческую и гармонично разностороннюю. Вы – ни то. ни другое. У вас нет и никогда не было собственного творчества. Доказано, что ваше единобожие и ваша суббота заимствованы; вы по отношению к этим идеям сыграли только роль популяризаторов, если позволите – даже коммивояжеров: к этой роли еврейская раса, действительно, весьма приспособлена. Зато еврейская душа неспособна ко многим восприятиям, ваша гамма ощущений крайне мала и не имеет хроматических оттенков: этим объясняется то. что у вас в лучшие времена вашей независимости не было никогда пластических искусств. Для постройки храма Соломону пришлось вызвать зодчего из-за границы. В вашей Библии – даже в «Песни песней» – нет, говорят, ни одного слова, означающего цвет, окраску. Только про Давида сказано, что он был рыжий, да Суламифь себя называет смуглой: но краски природы, неба, моря, листвы – все это игнорируется, точно не существует, не нужно, не интересно для сухого, расчетливого, монотонного еврейского духа. Сравните с этим Гомера, его rhododactylos Еоs – зарю с розовыми пальчиками!..
– Позвольте, при чем тут раса? Из той же расы произошли потом Израэльс, Левитан… Да чуть ли не вся «русская» скульптура, простите, тоже произошла из этой расы – Антокольский. Гинцбург. Аронсон… Просто в древности не могло развиваться у евреев художество потому, что религия запрещала изображать то, что «на небе вверху и что на земле внизу»…
– Нет-с, это не довод. Религиозные верования не объясняют национального характера, они сами должны иметь свое объяснение в особенностях национального характера. Народ с художественными задатками никогда не принял бы антихудожественной религии. Но вы меня не прерывайте. Я иду дальше: и библейская этика ваша, которой вы так гордитесь, какая-то сухая, расчетливая, – не рыцарская, чтобы не сказать – просто неблагородная. Каждый параграф имеет ясную практическую санкцию, обязательство Господа Бога уплатить наличными: дать землю, текущую млеком и медом, продлить дни твои на земле… Библия не знает высших стимулов морали – ни идеи совершенства, ни приближения к божеству, ни загробной жизни. Вдумайтесь только в этот факт: народ, в священных книгах которого нет ни слова о том, что будет с человеком после смерти!
Сравните это с арийцами, у которых вся религия-то началась с культа «отцов»! Ведь это разительное доказательство полного отсутствия интереса ко всему, что не имеет непосредственной практической пели. За пределами практических надобностей общежития у вас не только воля, но даже мысль не работала. Просто не интересовались. Неужели все это не дает права отрицать многогранность еврейской души? Неужели она равноценна с душой арийца, всестороннего, рыцарственного, мечтательного, гармонического? Поймите, я не хочу обидеть…
– Понимаю, понимаю. Пожалуйста.
– Да я кончил. Хотел только прибавить, что и в жизни не могу не видеть подтверждений этого взгляда. Распространяться на эту тему не хочу. но все-таки согласитесь, что если все, всюду, всегда ненавидят и презирают одну и ту же расу, то ведь нельзя это так просто объяснить одним тем. что все люди, мол, мерзавцы. Меняются предлоги вражды, меняется содержание обвинений, предъявляемых к евреям, но вражда и презрение вечны. Неужели вам самим в голову никогда не приходит, что. верно, есть в вас что-то такое неприемлемое, нестерпимое, раз всегда и повсюду вы наталкиваетесь на одно и то же отношение? Возьмите только список выдающихся людей, которые терпеть не могли евреев: кого вы там только не найдете! Цицерон, Ювенал и Тацит, Джордано Бруно и Лютер; Шекспир, Вагнер, Дюринг, Гартман, в сущности и Ренан; Пушкин, Гоголь, Шевченко, Достоевский, Тургенев… Это даже не десятая доля полного списка. Наконец, вот что я вам скажу. Вы, евреи, вообще мало встречаетесь с русскими. даже с юдофильствующими; а я среди них живу и знаю, как они к вам относятся, когда вас нет поблизости. Вы, господа, сами не знаете, сколько у вас врагов даже среди ваших друзей. Может быть, это не «вражда» в настоящем смысле, даже не презрение:
это именно какое-то непреоборимое ощущение низшего существа, низшей расы. Это ощущение есть у всех, и если какой-нибудь Милюков или даже Плеханов станет меня уверять, будто оно ему не знакомо, я ему не поверю. А когда одно и то же чувство разделяют все, тогда то чувство – правда.
– Вы кончили?
– Кончил. Жду ваших возражений.
– Я не буду возражать.
– Вот как?
– Не буду. Разве укажу вам на две-три мелочи. которые мне больше запомнились. Например, о загробной жизни. В Библии о ней, действительно, не говорится; тем не менее совершенно ясно, что верования о загробной жизни у древних евреев были. Саул в Эн-Доре вызывает тень пророка Самуила: Самуил «подымается» и спрашивает: «зачем ты меня потревожил?» Для всякого, кто привык разбираться в истории культуры, ясно. что такая легенда, такие выражения, вообще самая идея вызывания мертвецов может зародиться только там, где есть вера, что мертвец и за гробом продолжает жить. А другие выражения Библии, вроде того, что «Авраам присоединился к народу своему», иными словами – умер? Или та тщательность, с которой Авраам выбирает место, где похоронить Сарру? Всякий социолог скажет вам, что это явные черты народа, веровавшего в загробную жизнь. Прямого изложения этих верований в Библии не сохранилось, но не забудьте, что почти вся древнейшая литература евреев погибла, и Библия – только осколки ее. В книге Эсфири ни разу не упоминается имя Божие. Если бы уцелела только она, вы бы стали уверять, что евреи не знали идеи Бога… Или вот, тоже о красках и вообще о художестве. Во-первых, кроме русого Давида и смуглой Суламифи, в Библии есть еще и «зеленеющие» деревья, и «красная» чечевичная похлебка, и «синяя» пряжа. Во-вторых, картины природы в «Песне песней», именно по богатству зрительных впечатлений, куда полнее Гомера и его розовоперстой зари. В-третьих – почему вы напираете на отсутствие пластических искусств, а забываете о высоком развитии музыки у древних евреев? Книги Паралипоменон полны музыки даже чересчур – на каждом шагу музыка и пение. Это еще спорно, какое искусство глубже, какое искусство более артистично – пластическое или тоническое. А что касается до иностранных зодчих, то ведь и вам в России долгое время все лучшие храмы строили заморские архитекторы, однако вы себе не отказываете в художественной душе… Но это все мелочи. По существу я с вами спорить не буду.
– Значит, согласны?
– Нет, это просто значит, что о вкусах не спорят. Из ваших слов ясно только одно: что мы вам не нравимся. Это дело эстетики. Объективного критерия тут быть не может. Вы считаете, что ждать награды в загробной жизни есть этика высшего качества, чем ждать награды в жизни земной, а я считаю, что наоборот. Вы считаете, будто учение о приближении к божеству выше учения о том, что надо время от времени прощать долговые обязательства, и во время жатвы оставлять край поля неубранным – для бедняков; а я полагаю, что в этих простых правилах куда больше правды, и не земной, а божественной правды, правды, приближающей к божеству. Вы считаете, что заимствовать элементы культуры у Вавилона значит быть коммивояжерами; а я считаю, что всякое творчество в мире опирается на заимствованные элементы, и что народ, который сумел, на самой заре своей жизни, собрать эти осколки золота и создать из них такой вечный храм, – что этот народ есть народ творчества par exellence среди всех народов земли. Словом, дело вкуса. Я ведь не отрицатель рас, я не спорю против того, что есть арийское начало и есть еврейское и что они различны по содержанию. Я только считаю нелепостью всякую попытку расценить оба эти начала, установить, какое из них «высшее» и какое «низшее». Думаю, что перед лицом объективности оба равноценны и равно необходимы человечеству. А всякая оценка может исходить только из предвзятой нелюбви. Хотите, я вам покажу опыт?
– Какой?
– Я попробую проанализировать несколько моментов из русской истории. Буду при этом действовать так же, как вы: возьму в руки такую мерку, какая мне нравится, и буду ее прилагать к событиям, изложенным у Иловайского. Посмотрим, что получится. Хотите?
– Пожалуйста. Комплименты за комплименты. – Именно. Начнем с мерки. По-вашему, мерка высшей расы – это творчество и многогранность. Я мог бы поспорить и на ту тему, доказало ли русское племя в чем-нибудь свою творческую многогранность – дало ли оно миру хоть одно великое новое слово в области науки, религии, философии, законодательства, техники, художества… Но оставим это. Дело в том, что я выдвигаю другой критерий высшей расы: самосознание. В существе высшей породы, будь это ученый среди дикарей или аристократ среди плебеев, всегда живет неискоренимое, неподвластное его собственной воле сознание своей ценности. Внешне оно выражается в том, что мы называем разными именами – чаще всего гордостью. Это есть та черта, благодаря которой король Лир и в рубище остается королем: он сознает себя королем, он не может отделаться от этого сознания. Это ощущение своей аристократичности есть первый и главный признак аристократичности. Конечно, иногда parvenu выдает себя за аристократа: с другой стороны, и у бушменов есть поверье, что остальные люди хуже их. Но достаточно выскочке встретиться лицом к лицу с настоящим барином, и трещина в его сознании сразу вскроется: он смутится, он собьется с тона
– и он ощутит свою инфериорность. То же самое происходит с бушменом при столкновениях с белым человеком: в конце концов, белый ему все-таки импонирует. У обоих есть сознание своего превосходства. но у белого оно уцелеет, а у бушмена расшатается и атрофируется, и белый получит над ним не только кулачную, но и моральную власть. Поэтому признаком высшей расы можно считать только такое сознание превосходства, которое оказалось способным выдержать в течение долгого времени сильные конфликты и не пошатнулось.
– А, я понимаю вашу мысль. Так как, мол, евреи три тысячи лет верят в свое превосходство, то они…
– Нет. Речь у нас не о евреях, а о вас, русских. Я только разъяснял, что понимаю под словом «самосознание» и почему считаю наличность такого самосознания главным признаком высшей расы (если, конечно, допустить, что есть высшая и низшая расы). Высшая раса должна обладать прежде всего самосознанием: ей присуща непоборимая гордость, выражающаяся, конечно, не в спеси, но в стойкой выдержке, в уважении к ценностям своего духа. Самая мысль о том, чтобы подчинить себя и свою душу чужому началу, должна быть органически неприемлема для такой расы. Теперь возьмем Иловайского и начнем мерить этой меркой вашу русскую историю.
– Посмотрим.
– На заре этой истории мы встречаемся с призванием варягов. Факт замечательный. Вы скажете мне. что это басня, а не факт. Я знаю. Конечно, на самом-то деле оно произошло не так: вероятно, варяжские викинги просто-напросто захватили когда-то власть силой, и потом смутное воспоминание об этом событии превратилось в легенду. Но ведь легенда есть плод народного творчества, и в ней сказывается народная душа. Поэтому, если за «призвание варягов» русский народ не ответствен, то за легенду о призвании варягов он отвечает. Та идея. которая лежит в основе этой легенды, была, очевидно, вполне приемлема, совершенно естественна для русского народного самосознания, иначе легенда не сохранила бы этой идеи. А в чем эта идея? Что собрались вожди русской земли и решили поставить над собой вождя из-за границы. Не кто-нибудь, не простое мужичье, а воеводы собрались, и не нашлось у них достаточно самолюбия, чтобы додуматься до другого выхода из положения. Очевидно, народу, который создал эту легенду, который так объяснял себе факт воцарения чужеземцев, это казалось естественным: очевидно, его не шокировала мысль о том. что предки его сами управлять не могли и что единственным средством завести порядок было выписать начальника из-за границы. Чтобы понять всю соль этой басни, сравните ее с еврейской легендой о том. что произошло на заре еврейской истории. На заре еврейской истории Израиль уходит из-под власти чужеземного царя и пускается через пустыню – завоевывает себе обетованную отчизну. Вам не кажется, что в этих двух легендах – две народные психологии?
– Нет, не кажется. Впрочем, я ведь не спорю, я слушаю.
– Перелистываем Иловайского дальше. Останавливаю ваше внимание на странице, где рассказывается, как весь народ при Владимире принимал новую веру. Стоят по горло в воде и принимают новую веру. В это же самое время они кричат Перуну. которого по княжьему приказу сбросили в воду: «выдыбай, боже!» То есть Перун для них еще бог, который может выплыть. Я понимаю, народ меняет веру, когда старая расшатана. Но когда старая вера еще целехонька, когда она из глубины души народной кричит «выдыбай, боже!» – в это самое время лезть всем скопом в воду и принимать новую веру – это ясно говорит об одном: не было самосознания, не было гордого уважения к своему внутреннему достоянию, не было ощущения, что мне нельзя ничего навязать такого, чему нет корней в моей совести. Если есть расы высшие и низшие, то т а к не действует высшая.
– Одно замечание: у Иловайского приведена поговорка, объясняющая, почему пришлось лезть в воду. «Добрыня крестил мечом, а Путята огнем».
– Не сомневаюсь. Позвольте вам только напомнить для сравнения, что нас, евреев, крестили и огнем, и мечом; это у нас не поговорка, и вся наша история за 2000 лет этим полна – и, однако, ни Путята, ни Добрыня ничего с нами не поделали. Очевидно, мы такой народ, с которым нельзя разговаривать с палкой в руках… Но я отвлекаюсь: вернемся к Иловайскому. Перед нами татарское иго. Это одно из самых странных политических явлений на свете. Оно почти беспримерно. Когда римляне завоевывали страну, они ставили там гарнизон, выводили туда римские или латинские колонии; это была оккупация, в той или иной форме. Тут было совершенно другое. После страшного разгрома татары отхлынули к себе в орду; они, собственно, эвакуировали Русь, и не фактическим постоем, а одним только угрожающим видом своим, издали, держали ее в повиновении. Вам не кажется, что для этого нужен был ей какой-то особенный… талант повиновения? Конечно, разгром был ужасный, память об этом уроке изгладиться не могла; но, все-таки, есть характеры строптивые, жестоковыйные, которые быстро забывают самый кровавый урок и дерутся, пока не обрубят им рук, – и есть другие характеры, помягче. Сравните опять-таки, ради параллели, отношение евреев к чужеземному владычеству над Палестиной. Пока хоть горсть иудеев оставалась на святой земле, страна не покорилась. Не с ордою кочевников, а с великим Римом воевали Бар-Гиора и Бар-Кохба! Татары оставили удельной Руси полную автономию, и она смирялась и платила дань. Римлянам пришлось провести плуг по Иерусалиму, сравнять с землей цветущие города Галилеи, истребить и разогнать еврейское население чуть ли не до последнего человека, и только тогда Иудея подчинилась. Кровавая баня Тита была тоже страшным «уроком», но через 70 лет Бар-Кохба уже успел его забыть. Очевидно, не все расы обладают счастливой способностью так свято помнить «уроки», чтобы достаточно было хорошенько «проучить» один раз. и повиновение гарантировано на 200 лет. Есть расы неукротимые, и есть поддающиеся укрощению. Какие «выше»?
– Дело вкуса, как вы сами сказали. Но я вас слушаю, продолжайте.
– Нет, признаться, мне уж надоело. Мы ведь не так интересуемся вашей историей, как вы, антисемиты, нашей. Разве еще укажу на одну маленькую деталь, относящуюся к той же странице Иловайского – о татарском иге. Там рассказывается, что ваши князья ездили в орду на поклон и становились на колени перед ханом. Я этого не осуждаю, это было очень благоразумно и патриотично. Но вот вам параллель – из романа «Камо грядеши», сочинение Сенкевича. К Нерону приходят разные лица и становятся на колени: только два раввина не преклоняют колен, и Нерон с этим мирится, ибо, очевидно, понимает, что тут ничего не поделаешь: евреи не станут на колени. Да, словом, есть расы и расы. и какая из них «выше» – трудно разобрать…
– Знаете, что я вам на все это скажу? Вы еще больший руссофоб. чем я антисемит.
– Это я самым решительным образом отрицаю. Для меня все народы равноценны и равно хороши. Конечно, свой народ я люблю больше всех других народов, но не считаю его «выше». Но если начать меряться, то все зависит от мерки, и я тогда буду настаивать между прочим, и на своей мерке: выше тот. который непреклоннее, тот, кого можно истребить, но нельзя «проучить», тот, который никогда, даже в угнетении, не отдает своей внутренней независимости. Наша история начинается со слова «народ жестоковыйный» – и теперь, через столько веков, мы еще боремся, мы еще бунтуем, мы еще не сдались. Мы – раса неукротимая во веки веков: я не знаю высшей аристократичности, чем эта.
– Гм… – сказал русский. – Да, вы правы, это дело вкуса. Я… остаюсь при моем вкусе.
1911
ВМЕСТО АПОЛОГИИ
Если вникнуть как следует во вкус ритуального обвинения, возникает ощущение очень тяжелое, для впечатлительного человека нестерпимое. Вы вдумайтесь: ведь это про нас – про меня, вас, вашу мать! Каждый из нас, говоря с иноверцем, должен, значит. помнить, что тот, быть может, в эту самую минуту ежится и думает: «а кто тебя знает, не хлебнул ли когда-нибудь и ты из ритуальной рюмочки?» Попробуйте во все это вникнуть! В сущности, ведь это ужаснее, чем все остальное, что мы переносим в этой тюрьме. Я себе представляю, что впечатлительный человек, вдумавшись в это обвинение как следует, во всю глубину, может сойти с ума от обиды и отчаяния, или, по крайней мере, должен рыдать и рвать на себе волосы-Человек менее слабонервный, но зато наивный, должен выбежать на улицу, хватать там прохожих за полу или за пуговицу и доказывать им, пока не охрипнет горло, что это клевета, что мы ни в чем подобном не виноваты. Наконец, человек слепорожденный (среди нас таких очень много) поступит иначе. Он себя успокоит обычными успокоительными фразами: что в такую нелепость никто в сущности не верит; что сами обвинители в нее не верят; что это просто политический маневр; что вся благоразумная часть христианского населения (а таковая, конечно, в подавляющем большинстве) слушать не желает подобной клеветы, даже возмущена ею; что, словом, все обстоит благополучно и на Шипке спокойно.
Я не принадлежу ни к впечатлительным, которые охают, ни к наивным, которые оправдываются, ни к слепорожденным, которые не видят, что у них под носом происходит. Особенно резко должен отмежеваться от последней категории. Конечно, очень удобно и очень приятно воображать, будто все твои враги просто мошенники и сознательные обманщики; но такое упрощенное понимание неприятельской психологии всегда в конечном итоге приводит к величайшим поражениям. Ибо оно неправильно и несправедливо. Среди наших врагов далеко не все лыком шиты и далеко не все сознательные лжецы. Очень советую одноплеменникам моим не заблуждаться на этот счет. Среди правых есть и вполне искренние люди. Эти люди совершенно искренно верят, что евреи действительно употребляют в пищу кровь христианских младенцев; по крайней мере, что среди евреев есть такая секта. Эти люди могут также совершенно искренно думать, что убийство Ющинского в этом смысле подозрительно и что надо его расследовать с особенной тщательностью, иначе богатые евреи подкупят отечественную Фемиду, и дело будет замазано. Они совершенно искренно считают евреев богатыми, а отечественную Фемиду покладистой. Поэтому отделаться от них будет не так легко и не так просто, как это думают многие из нас. Вообще все это дело гораздо сложнее.
Оно особенно сложно потому, что вера в ритуальные убийства распространена не только среди правых. В нейтральной, беспартийной массе, даже интеллигентной, тоже далеко еще не искоренилось это подозрение. Смешно и глупо замалчивать это обстоятельство. Мало ли раз всякий из нас, кому только приходилось встречаться с христианами, слышал от самых милых людей откровенные признания в этом сомнении? Конечно, милые люди выражают это сомнение не в такой грубой форме. Они обыкновенно говорят так: «Конечно, мы не сомневаемся, вы и ваши близкие об этом не знаете. Но… может быть, ваши раввины знают? Мало ли таких древних религий, в которых высшие таинства известны только немногим посвященным?». Другие еще добрее, они идут еще дальше по пути уступок и ставят вопрос так: «Может быть, это какая-нибудь особенная секта? Можете ли вы поручиться, что знаете наперечет все секты в лоне еврейства и все тайны каждой секты? Вот и у нас есть изуверы – хлысты и скопцы – разве мы за них в ответе? Зачем же вам так волноваться и огулом отрицать то, что все-таки, быть может, имеется в действительности?» Так говорят многие, очень многие из самых милых наших соседей! причем я их называю милыми без всякой иронии. а серьезно. Есть вполне порядочные, совершенно благожелательные люди, которые, однако, высказываются именно в этом смысле. Кто скажет, будто таких нет, тому я просто отвечу, что он говорит неправду. Они есть, и всякий из нас имел случай их видеть и слышать. А сколько таких, которые не высказывают вслух, но думают то же или еще хуже? И больше: спрошу: где гарантия, что это подозрение так цепко держится только в беспартийной.нейтральной среде? Неужели для того, чтобы стать кадетом, надо раньше искоренить в себе все предрассудки, даже взрощенные веками? Неужели в рядах трудовиков нет места человеку, который подписывается под всей партийной программой, но все-таки еще не может, положа руку на сердце, поручиться, что в Талмуде, который знать он не обязан, нет параграфа о ритуальном убийстве? Не хочу вести это рассуждение дальше налево, только напомню, что главный материал, из которого строятся или должны бы строиться русские левые партии, это – или крестьянство или фабричные, вчера вышедшие из деревни. Наши слепорожденные горько ошибаются, и суждено им еще горько разочароваться.
Ошибаются во многом и наивные – те, что по всякому поводу становятся в позу и начинают защитительную речь. Их доводы так же однообразны, как обвинения противной стороны. Одно и то же из века в век. Сначала доказывается, что еврейская вера воспрещает употребление крови: затем идет доказательство. что самые знаменитые ритуальные процессы всегда кончались торжеством истины, оправданием невиновных и посрамлением клеветников. И толпа этих доводов не слушает, и никто в толпе с ними не считается. На перечень оправдательных приговоров отвечают: жиды подкупили суд. На перечень текстов, запрещающих употребление крови, отвечают: значит, есть еще один текст, который разрешает, и его-то вы нам не хотите процитировать. Вся аргументация пропадает даром, как вода в дырявой бочке. Я не вообще отрицаю полезность документальной защиты, но она полезна только в свое время и на своем месте. Место ей – на суде. место ей – в настоящем парламенте, но только в настоящем, где происходит действительно серьезное рассмотрение серьезных вопросов. Когда вместо парламента имеется митинг, чтобы не сказать хуже, – митинг, где с трибуны несутся ругательства, оскорбления, призывы «бей», где резонов никто не слушает и документами никто не интересуется, – тогда защитительное красноречие не имеет никакой ценности и никакого смысла. Двести раввинов (в который раз) печатно побожились. что евреи не пьют крови младенцев, – и никто этого не заметил, даже черносотенная пресса не огрызнулась как следует: просто прошла мимо. не оглянувшись. То же самое впечатление произвели и произведут все бывшие и будущие речи на эту тему еврейских депутатов. С документами и доводами считаются там, где собрались люди с намерением спокойно и беспристрастно исследовать. В атмосфере свалки, бешенства, битья чем попало – все оправдательные словеса неуместны.
Может быть, даже вредны. Вот уже несколько лет, как евреи в России плотно сидят на скамье подсудимых. Это не их вина. Но вот что бесспорно их вина: они себя держат, как подсудимые. Мы все время и во все горло оправдываемся. Мы божимся, что мы совсем не революционеры, не уклоняемся от воинской повинности и не продавали Россию японцам. Выскочил Азеф – мы начинаем божиться, что мы не виноваты, что мы совсем не такие, как он. Выскочил Богров – и опять нас за шиворот ташут на скамью подсудимых, и опять мы входим в навязанную роль и начинаем оправдываться. Вместо того, чтобы повернуть обвинителям спину, ибо не в чем и не перед кем нам извиняться, мы опять божимся, что мы тут ни при чем, и для пущей убедительности начинаем усердно отплевываться от памяти Багрова, хотя над этим – каков бы он ни был – несчастным юношей, в час изумительной его кончины, и без нас достаточно надругались те десять хамов из выгребной ямы киевского черносотенства. Теперь подняли гвалт о ритуальном убийстве – и вот уже мы опять вошли в роль подсудимых, мы прижимаем руки к сердцу, перебираем дрожащими пальцами старые кипы оправдательных документов, которыми никто не интересуется, и божимся на все стороны, что мы этого питья не потребляем, отродясь ни капельки во рту не бывало, разрази меня Бог на этом месте… Доколе? Скажите, друзья мои, неужели вам эта канитель еще не надоела? И не время ли, в ответ на все эти и на все будущие обвинения, попреки, заподозривания, оговоры и доносы, просто скрестить руки на груди и громко, отчетливо, холодно и спокойно, в качестве единственного аргумента, который понятен и доступен этой публике, заявить: убирайтесь вы все к черту? Кто мы такие, чтобы пред ними оправдываться, кто они такие, чтобы нас допрашивать? Какой смысл во всей этой комедии суда над целым народом, где приговор заранее известен? С какой радости нам по доброй воле участвовать в этой комедии, освящать гнусную процедуру издевательства нашими защитительными речами? Наша защита бесполезна и безнадежна, враги не поверят, равнодушные не вслушаются. Апологии отжили свой век.
Наша привычка постоянно и усердно отчитываться перед всяким сбродом принесла нам уже огромный вред и принесет еще больший. Население привыкло к этому, привыкло слышать из наших уст жалобный тон обвиняемого. Положение, которое соз далось в результате, трагически подтверждает известную поговорку: quo s'excuse s'accuse. Мы сами приучили соседей к мысли, что за всякого проворовавшегося еврея можно тащить к ответу целый древний народ, который законодательствовал уже в те времена, когда соседи еще и до лаптя не успели додуматься. Каждое обвинение вызывает среди нас такой переполох, что люди невольно думают: как они всего боятся! Видно, совесть нечиста. Именно потому, что мы согласны в любую минуту вытянуть руки но швам и принесть присягу, развивается в населении неискоренимый взгляд на нас, как на какое-то специально вороватое племя. Мы думаем, будто наша постоянная готовность безропотно подвергнуться обыску и выворотить карманы, в конце концов убедит человечество в нашем благородстве: вот мы, мол, какие джентльмены – нам нечего прятать! Но это грубая ошибка. Настоящие джентльмены – это те, которые никому и ни за что не позволят обыскивать свою квартиру, свои карманы и свою душу. Только поднадзорные готовы к обыску во всякий час. И мы себя ставим именно в такое положение, не считаясь с самой ужасной опасностью: а что, если нам подбросят краденую вещь?
До сих пор ритуальные убийства подбрасывались нам почти всегда неумелыми, топорными руками. Но я считаю вполне возможным, чтобы и в этой области сказался однажды общий технический прогресс нашего времени. Может найтись виртуоз, который так умно и тщательно разработает план, учтет и предусмотрит все неожиданности, что эффект получится самый ослепительный. В этом предположении нет ничего невероятного. Среди антисемитов теперь есть очень культурные люди, а с другой стороны – очень богатые и могущественные люди, которым доступны самые верные средства фальсификации. Не так трудно теперь найти и еврейчика-лжесвидетеля: этого добра и в прежние времена было немало, а теперь особенно. В результате могут пред нами в один прекрасный день разыграть такую правдоподобную комедию ритуального убийства, что самый честный, самый беспристрастный судья поколеблется. Что же мы скажем тогда – мы, которые чуть не всю свою оборону строим на том, что судьи нас по большей части оправдывали? Но я считаю возможным, даже вполне вероятным и другой, гораздо более ужасный случай. Еврейство сильно изнервничалось; кажется. мы один из первых народов по количеству душевнобольных. В той атмосфере травли, которую создает вокруг нас басня о ритуальном убое, могут в конце концов у нас народиться и маньяки, помешавшиеся на этой басне. Если не ошибаюсь, в Падуе в XVI веке был такой случай: еврей Давид Морпурго впал в безумие и стал кричать, чтобы к нему привели 3-летнюю дочь соседа-католика – он ее зарежет и окропит ее кровью опреснок. Раввины связали его и выдали властям: но счастью, безумие его оказалось очевидным, и дело не кончилось погромом. Но за 400 лет наши нервы сильно расшатались, и теперь не будет чудом. если явится более утонченный маньяк, который кричать не станет, а просто возьмет и сделает. Я считаю странным счастьем, что этого до сих нор не случилось. Не забудьте, среди какого кошмара мы живем, под каким ужасом воспитывается наша молодежь. Мы уже видели таких, которые помешались на революции, на терроре, на экспроприациях: в эпидемии самоубийств есть несомненная примесь психического расстройства: недавнее половое поветрие тоже выдвинуло заметный элемент явных маньяков. И вот, если разразится такая беда, что мы скажем, какие тексты вытащим? Будем ждать реабилитации своего народного имени от суда и экспертов: если они признают, что это сумасшедший, то наша честь спасена: а если маньяк попадется вроде Джека-потрошителя. трезвый и уравновешенный во всем, кроме своей мании, и покажется экспертам здоровым, тогда мы, значит, признаем себя обесчещенными навек? Ибо таков будет неотвратимый вывод из нашей мании – реагировать на каждый попрек, принимать всенародно ответственность за каждый проступок еврея, оправдываться перед кем попало – в том числе и черт знает перед кем.
Я считаю эту систему ложной до самого корня. Нас не любят не потому, что на нас возведены всяческие обвинения: на нас взводят обвинения потому, что не любят. Оттого этих обвинений так много, они так разнообразны и так противоречивы. Сегодня нам кричат, что мы эксплуатируем бедных, завтра кричат, что мы сеем социализм, ведем бедных против эксплуататоров. Одна польская газета на днях уверяла, что евреи расчленили Польшу и отдали ее России. а 100 русских газет уверяют, что евреи хотят расчленить Россию и восстановить Польшу. Итальянцы уверяют, что нападки на них во всей европейской прессе – дело евреев, а турецкая оппозиция утверждает, что на захват Триполи подбили Италию евреи. Что же. на весь этот визг и лай со всех сторон надо откликаться, божиться, уверять, присягать? Немыслимо и бесполезно. Если даже опровергнем одно, родится другое. Человеческая злоба и глупость неистощимы. С оправданиями можно выступать только в редкие, исключительно важные моменты, когда есть полная уверенность, что сидящий пред тобою ареопаг действительно имеет справедливые намерения и надлежащую компетенцию. Но делать из апологии систему для каждого дня, выносить ее на улицы, на трибуну митинга, хотя бы и именуемого парламентом, на летучие столбцы газеты – это значит унижать себя до равенства с лающей псарней.
Нам не в чем извиняться. Мы народ, как все народы; не имеем никакого притязания быть лучше. В качестве одного из первых условий равноправия, требуем признать за нами право иметь своих мерзавцев, точно так же. как имеют их и другие народы. Да, есть у нас и провокаторы, и торговцы живым товаром, и уклоняющиеся от воинской повинности, есть, и даже странно, что их так мало при нынешних условиях. У других народов тоже много этого добра, а зато еще есть и казнокрады, и погромщики, и истязатели, – и, однако ничего, соседи живут и не стесняются. Нравимся мы или не нравимся, это нам, в конце концов, совершенно безразлично. Ритуального убийства у нас нет и никогда не было; но если они хотят непременно верить, что «есть такая секта» – пожалуйста, пусть верят, сколько влезет. Какое нам дело, с какой стати нам стесняться? Краснеют разве наши соседи за то, что христиане в Кишиневе вбивали гвозди в глаза еврейским младенцам? Нисколько: ходят, подняв голову, смотрят всем прямо в лицо, и совершенно правы, ибо так и надо, ибо особа народа царственна, не подлежит ответственности и не обязана оправдываться. Даже тогда, когда есть в чем оправдываться. С какой же радости лезть на скамью подсудимых нам, которые давным-давно слышали всю эту клевету, когда нынешних культурных народов еще не было на свете, и знаем цену ей. себе. им? Никому мы не обязаны отчетом, ни перед кем не держим экзамена, и никто не дорос звать нас к ответу. Раньше их мы пришли и позже уйдем. Мы такие, как есть, для себя хороши, иными не будем и быть не хотим.
1911
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ШКОЛЫ
Почитать передовые газеты – выходит так, будто в законопроекте о всеобщем обязательном обучении, который теперь обсуждается в Государственной Думе, одно большое горе: земства и городские самоуправления отстранены от заведования проектируемой начальной школы. Если бы не эта беда, то со всем остальным, сделав маленькие поправки, можно было бы примириться. Так выходит по газетам, особенно по столичным. Несомненно, что устранение земств и городских дум – большая беда: хотя, с другой стороны, нельзя забывать и о том, что при нынешних порядках возможны такие составы земских управ и городских муниципалитетов, которые, пожалуй, куда свирепее самого свирепого столоначальника. Но дело в том, что и при передаче школ в самое полное и безграничное ведение местных самоуправлений – этот законопроект остался бы абсолютно неприемлем без малого для двух третей населения России, т.е. для той его части, которая не принадлежит к великорусской народности. Ибо вопрос о всеобщей школе есть прежде всего вопрос о языке преподавания.
У «нас» об этом всегда забывают. Либералы-то «мы» либералы, радикалы-то «мы» радикалы, а в некоторых важных отношениях «наше» миросозерцание вполне направляется и диктуется начальством. Начальство принципиально не признает разницы между понятиями «русское» и «российское», и «мы» тоже в конце концов игнорируем эту разницу. Между тем она очень почтенна: «русское» означает свойственное одной из народностей, населяющих Империю, а «российское» означает свойственное всей России. Конечно, русская народность – величайшая в государстве, богатейшая по культурной силе – по крайней мере. в количественном отношении: она своим трудом и талантом создала это громадное государство, и она при каких угодно политических реформах, в силу своего удельного веса, останется здесь «первой среди равных». Но – среди р а в н ы х, а это у «нас» даже радикалы забывают. Забывают, пользуясь тем, что вековое казенное насилие культурно обесплодило почти все эти национальные меньшинства, задушило в корне их творческие попытки и заставило – или отказаться от просвещения, или искать его в чужом источнике. В конце концов, это забвение, это замалчивание самой наличности гигантского иноязычного большинства незаметно и (надеюсь) бессознательно превращается у «нас» в косвенное содействие казенной руссификации. Создается такое впечатление, словно все уже обрусели, а те, которые еще не успели, только о том и мечтают, чтобы обрусеть: следовательно, давайте им помогать в этом похвальном стремлении и насаждать русскую культуру в качестве всероссийской. А инородцы удовольствуются теа трами для простонародья – конечно, в такое время, когда сцена не занята под «серьезные» спектакли.
Между тем в действительности это все обстоит далеко не так. Большая публика мало знакома даже с элементарной арифметикой государства – с официальной статистикой населения. А не мешало бы знать. В 1897 году правительством была произведена всероссийская однодневная перепись, результаты которой были официально опубликованы лет 56 тому назад. По этой переписи население России в отношении родного языка распределяется следующим образом:
| Великороссы | 43.30 проц. всего населения |
| Украинцы | 17.41 |
| Поляки | 6.17 |
| Белоруссы | 4.57 |
| Евреи | 3.94 |
| Киргизы | 3.18 |
| Татары | 2.91 |
| Немцы | 1.40 |
| Литовцы | 1.29 |
| Латыши | 1.12 |
| Башкиры | 1.12 |
| Грузины | 1.05 |
| Армяне | 0.91 |
| Молдаване | 0.87 |
| Мордва | 0.79 |
| Эсты | 0.78 |
Остальные народности, насчитывающие меньше миллиона членов, опускаю для краткости. Надо иметь в виду, что под этими скромными на вил процентами скрываются громадные абсолютные цифры. Украинцев, например, 22 с половиной миллиона – на 4 миллиона больше, чем, например, испанцев в Испании. «Каких-нибудь» литовцев – 1.658.000 тысяч: в Норвегии в то же время насчитывалось немногим больше 2 миллионов населения, а между тем норвежская культура поставляет модных писателей на весь цивилизованный мир. Иными словами, все это крупные народы, которые при других условиях могли бы создать свою самобытную культуру, прославить имя свое и, в конце концов, принести общему отечеству России несметно больше пользы, чем те перь, когда они прозябают почти все на задворках, в качестве бесплатного приложения к великорусской народности. При этом следует отметить еще одно обстоятельство: количество великороссов в переписи несомненно преувеличено, так как на русском языке говорит – особенно в городах Малороссии, западного края, юга, Поволжья, северного Кавказа – множество руссифицированных инородцев, которые, однако, признают себя членами других национальностей и при первой возможности воспитали бы своих детей на другом языке. Таких элементов особенно много среди украинцев, а также евреев и армян. Несомненно, были крупные ошибки в пользу великорусского элемента и при переписи в сельских местностях Поволжья, где мордва, черемисы и чуваши сильно перемешаны с русскими. Не рискуя впасть в грубую ошибку, можно сказать наверняка, что действительное количество великороссов в России вряд ли многим выше одной трети всего ее населения. Это, приблизительно, то же место, которое занимают немцы в Австрии.
Конечно, дело не в одних цифрах, дело главным образом в психологии: есть ли у всех этих народностей воля к национальной жизни, или они, быть может, уже примирились с перспективой растворения в котле чужой культуры? У «нас» часто уверяют, будто уже примирились особенно настойчиво утверждают это по отношению к украинцам и белоруссам. Какие, мол, они украинцы, какие белоруссы! Они сами только о том и мечтают, как бы скорее разучиться говорить по-мужичьи и перейти к господской речи. Сюда обыкновенно пришпиливается «филологическая» справка о том, что украинский (а тем более белорусский) язык не язык даже, а просто наречие, один из говоров великорусского. Эта филологическая справка есть простая болтовня: испанский и итальянский, норвежский и датский, немецкий и голландский языки еще ближе друг к другу, чем русский и украинский, а все-таки это особые языки с особыми культурами, потому что самостоятельность языка определяется не филологами, а сознанием народов. Впрочем, и с филологической стороны дело обстоит не так плохо: в 1905 году Петербургская академия наук в ответ на запрос комитета министров составила докладную записку, где обстоятельно доказывалось, что украинский язык сам но себе, а русский сам по себе и что замена первого вторым в народных школах Малороссии привела к понижению культурного уровня. – Но помимо всего этого, самостоятельное развитие украинской культуры есть факт ненрслож ный и, так сказать, официальный – и двух шагах отсюда, в Галиции. Нечего уже говорить о литературе, театре и печати; но на этом языке – несмотря на все стеснения и препятствия со стороны шляхты, хо зяйничающей в крае, – там ведется и преподавание в народных школах и в нескольких гимназиях: в львовском университете на этом языке читаются нс которые лекции, и на очереди стоит вопрос об учре ждении специально-русского университета: наконец, на этом языке обязаны судить и рядить судьи и чи новники в восточной Галиции. Всему этому из России помешать нельзя, и потому вопрос о том. «может» ли и «должен» ли украинский язык создать осо бую культуру, есть вопрос праздный. Какие там разговоры, какое там «может» или «должен», когда есть на лицо?
Вопрос же о том, есть ли у многочисленных парод ностей России воля к национально-самобытной жиз ни, решается тоже не рассуждениями, а фактами, опытом жизни. Ясный ответ дает недавно вышедшая книга «Формы национального движения в современных государствах». Там в ряде отдельных очерков, написанных такими специалистами, как проф. Грушевский, Л.Крживицкий, С.Дубнов, член Думы Булат, прив.-доц. Авалов, Л.Штернберг, изображено на строение главнейших народностей европейской и азиатской России в эпоху освободительного движения. Выводы получаются очень любопытные. Оказывается, при первом ветерке свободы все они, без исключений, потребовали эмансипации от чуждой им русской культуры и права на свою национальную школу. Вот несколько примеров. В сентябре 1906 гола епархиальный съезд духовенства (!) Подольской губернии возбудил перед синодом ходатайство о введении в начальных школах губернии преподавания всех предметов на украинском языке, а также о введении обязательного изучения украинского языка, истории и литературы в каменец-подольской духовной семинарии. Полтавская городская дума постановила вести в школе имени Котляревского преподавание на украинском языке. Во множестве сельских школ эта реформа была введена «явочным порядком» – не только на крамольном левом берегу Днепра, но и в благонамеренной правобережной Украине, напр., в Брацлавском уезде. – Съезд белорусских учителей, собравшийся в мае 1907 года, постановил о необходимости вести все преподавание в начальных школах на белорусском языке. Вслед за этим образовалась «Белорусская национальная хэура» – союз учащихся в Глуховском учительском институте (Черниговской губ.): союз тоже ставит своей целью национализацию школы. Автор статьи, г. А.Новина, сообщает: «Нам известен ряд школ – конечно, частных, где обучение детей ведется по-белорусски (в Могилевской, Минской и Виленской губ.). Спрос на учителей для таких школ растет». – У евреев требование национальной школы, с преподаванием всех предметов на еврейском языке выставлено было всеми, без исключения, еврейскими партиями: и сионистами, и Бундом, и даже петербургской обруселой буржуазией. – У литовцев борьба за родной язык осложнялась борьбою за родной алфавит: до 1904 было запрещено печатать литовские книги иначе, как русскими буквами. Однако «литовские родители считали и считают своей обязанностью хоть тайно обучать своих детей, по крайней мере, чтению на литовском языке». В дни свободы началась в сельских школах повальная замена чужих учителей литовскими. Возникли разного рода культурно-просветительные общества. Одно из них, «Светило», основало ряд школ, где преподавание велось на литовском языке: другое, «Свет», с 18 отделениями. 10 библиотеками, организовало театральную группу и тоже учреждало школы. В 1905 году образовался «союз учителей-литовцев», требовавший национализации всех школ Литвы и возрождения виленского университета, но уже не в качестве польского, а литовского. – Латыши требовали латышского языка в школе, суде и самоуправлении, латышского городского театра в Риге (частные театры у этого в высшей степени культурного народа есть в изобилии), даже латышских надписей на улицах, трамваях и т.д. – У армян «под влиянием новых условий жизни и новых идейных факторов национальная идея не только не ослабевает, но приобретает более широкий и ясный характер». Некоторые остатки национальной школы у армян еще сохранились, благодаря церковной автономии, так что в этом отношении им в 1905-1906 году пришлось требовать не реформы, а только упрочения и развития существовавшего порядка. – У калмыков и башкир в 1907 году возникли «учительские союзы» с национально-культурной программой. Буряты «категорически требуют введения родного языка в школе, суде и самоуправлении»: они же учреждают издательство учебников и переводных книг. В апреле 1904 г. состоялся в Чите с разрешения губернатора съезд бурят и тунгусов Забайкалья, выработавший проект реформы управления краем, а в том числе всеобщего обязательного обучения на монгольском языке. Якуты учредили в Якутске национальный театр, где ставились «не только драмы, но даже оперы» и т.д.
Всех не перечислишь, да и не нужно. Все ведь это смела реакция, уничтожила большую часть драгоценных культурных ростков. Но приведенные факты остаются фактами и непреложно доказывают одно:
воля к национально-самобытной жизни есть. Около 60 процентов населения России не хотят великорусской школы, ибо хотят учиться на своих языках и творить свои культуры. Россия им дорога, как идея общности, взаимной защиты, круговой поруки; она им рисуется в перспективе будущего прекрасным человеческим садом, где самые разнообразные культурные цветки мирно распускаются один подле другого, каждый в своем своеобразии, соперничая друг с другом красотой и ароматом, а не кулаком и обухом. Вне этого идеала для них нет просвещения и нет прогресса, а есть только грубое насилие, загримированное (да еще неудачно) под цвета просвещения и прогресса.
Законопроект предусматривает какое-то двухлетнее обучение на «местном» языке, с тем, однако, чтобы с третьего года все преподавалось по-русски; но и эта «льгота» предположена только для уездов с нерусским большинством, причем, конечно, украинцы и белоруссы будут любезно зачислены в состав «русского большинства». Кроме того, предстоит, очевидно, отбор «местных» языков, причем некоторые будут просто признаны несуществующими: украинского языка не существует, белорусского тоже, молдавского в Бессарабии тоже, финских наречий на Волге и на севере тоже, а об еврейском языке и говорить нечего: «обретается в не тех» и не имеет никакой культурной реальности. Несколько щедрее оказываются, судя по телеграммам, октябристы: они собираются голосовать за четырехлетнюю, а не двухлетнюю отсрочку принудительной руссификации. Но и октябристы не согласны признать школьными языками такие, как украинский или еврейский. 22.500.000 малороссов, 6 миллионов белоруссов. 6 миллионов евреев, 3 миллиона поволжских и северно-российских финнов и прочая «мелкота» обрекаются на национальное исчезновение.
Конечно, в самом горьком положении окажутся при этом порядке евреи. Этот народ живет главным образом среди поляков, украинцев, белоруссов, литовцев, эстов, латышей и молдаван и меньше всего соприкасается с великороссами. Как же будет решена его судьба? В какие школы будут гнать его детей? Из проекта это неясно. Во всяком случае, раз преподавание на еврейском языке исключено, а посещение школы обязательно, остается одно из двух: или школы местного большинства – польские, литовские, латышские, эстонские, немецкие, – или русская школа. В том и в другом случае горемычному племени уготовляется в недалеком будущем перспектива, одновременно курьезная и трагическая. Что значит обучение в школах местного большинства, это мы видим в Австрии, где часть евреев воспитывается по-немецки, часть по-польски, часть по-чешски, часть по-итальянски, все они друг от друга отрезаны, друг друга не понимают, не могут объединиться ни для отпора против антисемитизма, ни для борьбы за действительное осуществление бумажного равноправия и, в результате, представляя собою народ в миллион с четвертью индивидуумов, не играют в Австрии никакой политической роли, тогда как словинцы, итальянцы, хорваты, которых гораздо меньше, имеют в руках прочную долю влияния на государственные дела и извлекают из этого влияния реальные выгоды. Тем хуже будет в России, где равноправия не только на бумаге, но и в перспективе нет и где евреям, как свет и воздух, необходимо единство, солидарность, организация. Вместо этого им, кажется, предоставлено будет распределиться по нациям: рижские будут числиться латышами, ковенские литовцами, ломжинские поляками, а мы, южане, значит, будем великороссы. А там, даст Бог, лет через 20, разовьются у нас и соответствующие национальные чувства. Мы, южные великороссы Моисеева закона, будем гордо смотреть сверху вниз на ковенских литвинов иудейского вероисповедания и будем их корить:
– Что у вас за культура? Ерунда, а не культура. «Наша» лучше!
А «литвин» скажет:
– Врешь, «наша» куда лучше!
В Австрии эта картинка встречается сплошь и рядом. Худшие шовинисты-подстрекатели, наиболее резко призывающие венских немцев душить чеха. – это евреи из редакции «Neue Freie Presse». Зато в австрийском рейхсрате три четверти немецких депутатов – непримиримые антисемиты, а в Вене двадцать лет господствуют христианские социалисты.
Еще приятнее другая альтернатива: если нас заставят учиться только по-русски. Уже и теперь евреи во многих городах черты оседлости, где великорусского населения нет, являются единственными, так сказать. представителями русской культуры, т.е.. говоря точнее, единолично руссифицируют край. Вильна, например, руссифицирована только еврейской интеллигенцией: и что-то незаметно, чтобы за эту услугу евреев очень любили тамошние великороссы. – а зато поляки и литовцы открыто ставят евреям этот подвиг в большую вину. То же самое в Малороссии. Украинская печать вообще и прогрессивна, и демократична, но когда речь заходит о руссификаторской роли еврейской интеллигенции, эта печать выходит из себя и положительно сбивается на антисемитские ноты. И хуже всего то, что не знаешь, какими словами протестовать. Ибо ведь действительно правда, что города Украины, где великороссов можно по пальцам перечесть, и вполовину бы не носили того характера, который носят теперь, если бы еврейская интеллигенция не так усердно шла навстречу администрации в смысле насаждения русского языка. Прикрепощение евреев к русской школе зафиксирует этот порядок вещей и сделает еврейское население окончательно ненавистным в глазах самых демократических элементов местного большинства…
Из всего сказанного следует ясный вывод: всеобщее обязательное обучение, если оно не производится для каждой группы населения на том языке, который группа эта признает языком своей национальной культуры, не имеет ничего общего ни с просвещением, ни с прогрессом. Ярко и отчетливо заявил это однажды в Думе польский депутат: лучше никакой школы, чем такая. Нет ни одного здорового народа, который не присоединился бы к этим словам.
1910.
О ЯЗЫКАХ И ПРОЧЕМ
П.Б. Струве в январской книжке «Русской Мысли» (1911) затронул интересный и важный вопрос. Жаль только, что затронул мимоходом и аподиктически разрешил на 4 страничках. Этот спор об этнической природе государства российского, о том, считать или не считать малороссов и белоруссов за особые нации, о том, быть ли России «национальным государством» или же пути ее ведут к так называемому Nationaliatenstaat, – спор этот заслуживает самого серьезного, самого, если позволено так выразиться. увесистого обсуждения. И я глубоко убежден, что постепенно он и станет во всей серьезной российской публицистике предметом такого именно обсуждения. Ибо вопрос о национальностях есть для России кардинальный вопрос ее будущности, более важный, более основной, чем все другие политические и даже социальные проблемы, включая хотя бы самое аграрную реформу. Пишу эти слова и, конечно, знаю, что лишь очень немногие с ними согласятся. И тем не менее, – оно все же так. Было время, когда и в Австрии думали, будто национальная проблема есть второстепенная мелочь, скромно отходящая на задний план, как только на сцену выступают «настоящие» интересы, особенно экономические. А жизнь доказала. что все бытие государства, точно вокруг оси, обречено вращаться вокруг проблемы национальностей, и под конец даже социал-демократия стала давать основательные трещины как раз по швам национальных разделений. От судьбы не ушла Австрия, от судьбы не уйдут и ее соседи.
Я тоже не имею в виду браться за «увесистое» рассмотрение вопроса, затронутого П.Б. Струве. Но хочу сделать несколько беглых замечаний по поводу одной из деталей этого вопроса: о том, куда зачислить малороссов и белоруссов. Вряд ли, впрочем, уместно тут слово «деталь»: это не деталь, а центр тяжести всего спора. В самом деле: если малороссов и белоруссов зачислить, как хочет П.Б. Струве, в состав единой русской нации, то нация эта возрастает до 65 процентов всего населения Империи, т.е. до громадного большинства в две трети: и тогда, пожалуй, картина действительно недалека от «национального государства». Наоборот, если малороссов и белоруссов считать за особые народности, то господствующая национальность сама оказывается в меньшинстве (43проц.) против остального населения, а сообразно тому изменяются и все виды на будущее. Поэтому смело можно сказать, что разрешение спора о национальном характере России почти всецело зависит от позиции, которую займет тридцатимиллионный украинский народ. Согласится он обрусеть – Россия пойдет по одной дороге, не согласится – она волей-неволей пойдет по другому пути. Прекрасно поняли это правые в Государственной Думе. Когда решался вопрос о языках инородческой школы, они, смеху ради, голосовали даже за каких-то «шайтанов» и «казанских греков»; они даже не подняли рук против еврейского языка, очевидно, желая сделать весь законопроект ненавистным и неприемлемым для начальства; но когда речь зашла об украинском языке, они отбросили и паясничество, и хитроумные расчеты и просто подняли руки против, ибо почуяли, что тут самое опасное место, решительный шаг, при котором ни шутки шутить, ни лукаво мудрствовать не приходится.
Возражение П.Б. Струве вызвано следующими моими строками, напечатанными в той же «Русской Мысли»:«На этих страницах П.Б.Струве неоднократно высказывал, что считает Россию государством национально-русским. В этом очерке не место спорить о таком сложном вопросе; но считаю нужным кратко оговорить, что стою на резко противоположной точке зрения. Примыкаю к тем, которые не закрывают глаз на статистику и помнят, что народность, язык которой называется русским, составляет, по несомненно преувеличенным данным переписи 1897 г., всего 43 процента населения Империи. Это много, но этого недостаточно для того, чтобы остальные, «инородцы», добровольно согласились на роль бесплатного приложения к великорусской народности. Относясь с глубочайшим уважением к этой народности и к ее могучей культуре, желая с ней жить и дальше в тесной близости духовного обмена. они, однако, полагают, что естественной вотчиной этой культуры являются пределы этнографической Великороссии, и если теперь оно не так, то причина, главным образом, в вековом насилии и бесправии. Мы, «инородцы», предвидим только одну из двух возможностей: или в России никогда не будет свободы и права, или каждый из нас сознательно использует свободу и право прежде всего для развития своей самобытной национальной личности и для эмансипации от чужой культуры. Или Россия пойдет по пути национальной децентрализации, или в ней немыслимо будет ни одно из оснований демократии, начиная со всеобщего избирательного права. Для России прогресс и Nationaliatenstaat – синонимы, и всякая попытка перескочить через эту истину, утвердить в государстве прочный порядок наперекор воле и сознанию трех пятых населения – кончится крахом. Так полагают «инородческие» националисты, и не только они: а кто прав, ответит будущее».
«Изумительно прежде всего. – отвечает П.Б.Струве. – в какой мере политическая или иная тенденция способна слепить глаза и скрывать от зрения самые внушительные и непререкаемые объективные факты. Какая-то упорная традиция, постоянно оживляемая интеллигентской политической тенденцией. скрывает от некоторых людей огромный исторический факт: существование русской нации и русской культуры. Именно русской, а не великорусской. Ставя в один ряд этнографические «термины» – «великорусский», малорусский», белорусский», автор забывает, что есть еще термин «русский» и что «русский» не есть какая-то отвлеченная «средняя» из тех трех «терминов», а живая культурная сила, великая, развивающаяся и растущая национальная стихия, творимая нация (nation in the making, как говорят о себе американцы)».
Прежде всего замечу, что П.Б. Струве не прав, полагая, будто я забываю о термине «русский». Напротив. Я даже совершенно согласен с г. Струве в том, что русская нация и культура «не есть какая-то отвлеченная средняя» из великороссов, малороссов и белоруссов. Конечно, не есть. Русским языком называется у людей язык одного только великорусского племени; ни украинского, ни белорусского языка этот термин не обхватывает. А русской национальной культурой называется культура, созданная на этом языке. На языке великороссов и только великороссов, а не на каком-то отвлеченном «среднем» из трех языков. Ибо такого среднего и на свете нет. Следовательно, русская культура есть национальная культура великорусского племени. Малороссов и белоруссов можно заставить присоединиться к ней, или можно даже мечтать, что они к ней все добровольно присоединятся; но это будет именно присоединение к чужой (хотя бы и родственной) культуре, созданной не на природном языке присоединяющихся национальностей. Термины «русская культура» и «великорусская культура», взятые в чистом своем значении. совершенно совпадают, ибо русский язык и русская культура ни для кого, кроме великороссов, не являются природными. Я лично всегда охотнее употребляю термин «русский» вместо «великоросс»: если в данном случае отступил от этой привычки, то только во избежание неясности, так как знал, что есть – повторю выражение П.Б. Струве – «какая-то упорная традиция» совершенно неточно смешивать под словом «русский» в одну кучу три народа, отличных друг от друга по языку, по истории, по темпераменту, по физическому типу, по внутренней индивидуальности, по быту и общественному строю.
Есть «какая-то упорная традиция, постоянно оживляемая интеллигентской политической тенденцией», уверять самих себя и всех добрых людей, будто русская нация есть не «живая культурная сила», реальная. осязаемая и отграниченная, а именно «какая-то отвлеченная средняя», некая метафизическая сущность, сочетающая в своем единстве три различных начала. Это, конечно, чистейшая фантазия. Но, мне кажется, если кто заслуживает упрека в таком фантазировании, то уж никак не те, для кого русская нация сама по себе, и украинская или белорусская – тоже сама по себе, – а скорее те, которые не признают тождества «русской» культуры с «великорусской» и непременно хотят придать первому термину какое-то более широкое значение. Правда, сами украинские публицисты часто употребляют слово «русский» в другом значении, чисто этнографическом, и в этом смысле причисляют к «русскому племени» и украинскую народность. Если не ошибаюсь, такая формулировка родства между великороссами, малороссами и белоруссами освящена еще авторитетом Костомарова. В одной статье одного украинского националиста она была выражена так: «Я – славянин по расе, русский по племени, украинец по национальности». Сомневаюсь, имеет ли эта сложная классификация какую-либо ценность с точки зрения этнологии; но во всяком случае за пределы этнологии и этнографии ее значение не простирается. Специфическую культуру создают не «расы» и не «племена» (да и вообще эти термины так неопределенны и расплывчаты, что теперь ими надо пользоваться только с величайшей осторожностью): культуры создаются национальностями, и каждая из национальностей ревниво бережет свою культуру и противится, когда сосед ей навязывает свою, хотя бы сосед этот числился ей двоюродным братом «по расе» и единоутробным «по племени». Хорваты и словинцы – и тесные соседи, и близкая родня по расе, племени, вере и т.д., и даже языки их куда ближе друг другу, чем русский с украинским; однако это две разные национальности с двумя разными культурами. Венгерские словаки – ближайшая родня чехам, настолько близкая, что словацкое население соседней Моравии считает своим национальным языком чешский: но словаки Венгрии считают себя словаками, ревниво берегут отличия в своем диалекте, охраняют свою литературную речь от чешских оборотов и, насколько это мыслимо при мерзостях мадьярского режима, творят свою словацкую, а не чешскую культуру. Ибо для этого творчества ни этнология, ни даже филология не указ. Для него указ – национальное сознание. Кто «украинец по национальности», для того все остальное родство по племени, по расе и т.д. может иметь только побочное значение: при выборе культуры решающий голос принадлежит не «расе», не «племени», а осознанной национальности.
Еще одна оговорка. Обыкновенно, когда хотят доказать, что русская культура есть продукт тройственного взаимодействия, а не одних великороссов, на сцену вытаскивается Гоголь, а иногда, в последнее время, и Короленко. Вот, дескать, малороссы, участвовавшие в создании «общерусской» литературы. Убедительность этого доказательства под большим сомнением. Величайший венгерский поэт Шандор Петефи назывался в сущности Александр Петрович и был сыном словака; но никто в этом не видит доказательства, что мадьярская литература будто бы есть «общевенгерская». У немцев тоже был крупный поэт, даже с проблесками гениальности, но имени Шамиссо. а по происхождению француз; разве поэтому немецкая литература стала немецко-французской? Разве она стала из-за Гейне немецко-еврейской? Общий фон, общий характер данной культуры не изменяется оттого, что случайно жизнь забросит и ее ряды человека другой крови, хотя бы даже гениального. Он или целиком ассимилируется с окружающим фоном, как Петефи или Шамиссо, или только наполовину, как Гоголь, на чьих произведениях лежит сильнейшая печать украинского темперамента, или совсем не ассимилируется и остается бобылем, непризнанным изгоем, как Гейне, – но национальный характер данной культуры остается неприкосновенным, и инородные пятна только выделяют и под черкивают ее основной цвет, подобно тому, как черные «мушки» оттеняют белизну кожи. Десять Гоголей и сто Короленко не сделают русскую литературу «общерусской»: она остается русскою, т.е. великорусскою, а рядом с нею украинская народность, пробиваясь сквозь строй великих трудностей, создает свою литературу на своем языке.
Я написал, что если русская культура играет теперь неестественную роль культуры всероссийской. то «причина, главным образом, в вековом насилии и бесправии». П.В.Струве с этим не согласен. Русская, мол, культура преобладает и в Киеве, и в Могилеве, и в Тифлисе, и в Ташкенте «вовсе не потому, что там обязательно тянут в участок расписаться в почтении перед русской культурой, а потому, что эта культура действительно есть внутренне властный факт самой реальной жизни всех частей Империи, кроме Царства Польского и Финляндии». Тут уж П.В.Струве безусловно несправедлив к нашему благопопечительному российскому начальству. Как же можно отрицать его великие, неискоренимые из нашей памяти заслуги по части насаждения русской культуры за пределами Великороссии? П.В.Струве с легким сердцем констатирует. что теперь в Киеве «нельзя быть участником культурной жизни, не зная русского языка», и думает, будто «участок» тут ни при чем, а между тем это великая ошибка. Напротив, все дело в участке и в его многовековом усердии. Вот как рассказывает об этом усердии известный украинский историк, проф. М.Грушевский: «Покончив с политической особностью Украины, правительство не удовлетворилось этим: оно решило стереть и уничтожить также и проявления ее национальной жизни, и даже особенности украинского национального типа. Начиная с Петра I для украинских изданий вводится цензура, имевшая целью привести их к единообразию в языке с изданиями великорусскими. Руссифицируются украинские школы. Вводится великорусское произношение в богослужении. Всякие проявления украинского патриотизма ревностно преследуются и подавляются».
Но зачем заглядывать так глубоко в старину! Вот перед нами новейшее время: с половины прошлого столетия замечается в России подъем украинского движения – и тотчас же начинается сверху ревностная борьба против «хохломании» и «сепаратизма». В 1863 г. министр Валуев провозглашает: «Не было, нет и быть не может украинского языка»-а в 1876 г. издан был указ, просто-напросто воспретивший украинскую культуру. Отныне разрешалось печатать по-украински только беллетристику да стишки и разыгрывать пьесы в театре; что касается до газет, журналов, серьезных книг и статей, лекций, проповедей и т.п., – все это было воспрещено, а об украинской школе и говорить нечего. Что же удивительного, если на этом поле, начисто опустошенном и распаханном усилиями урядника, с такой легкостью и вне всякой конкуренции взошли посевы той культуры, которую урядник, по крайней мере, терпел? И ничуть ее пышный расцвет в Киеве не доказывает, что дело исключительно в ее собственной мощи, что она и без помощи урядника все равно заглушила бы все соседние ростки и воцарилась единодержавно. Напротив. П.В.Струве сам не будет спорить против того, что если бы вместо указа о воспрещении украинской культуры явился в 1876 г. указ о разрешении вести на украинском языке преподавание в школах и гимназиях, то уважаемому публицисту вряд ли пришлось бы теперь так победоносно констатировать, что в Киеве без русского языка нельзя быть культурным человеком.
Что в Киеве, то было и повсюду. Всюду на окраинах русская культура появилась только после того, как земский ярыжка расчистил ей дорогу, затоптав сапожищами всех ее конкурентов. На Литве с 1863 года были запрещены польские спектакли, польские газеты и даже польские вывески, а литовцам запретили печатать литовским алфавитом что бы то ни было, даже молитвенники. Воспрещены были спектакли на еврейском жаргоне (еврейских актеров заставляли играть «по-немецки»), и до начала этого века не разрешали ни одной газеты на жаргоне. Тоже или почти то же происходило на Кавказе, и только потому П.В.Струве имеет ныне возможность записать и Тифлис в перечень городов, завоеванных русскою культурой. Точнее, куда точнее было бы сказать: «Завоеванных урядником для русской культуры». Это, конечно, не мешает нам всем высоко ценить и даже любить русскую культуру, которая многому хорошему нас научила и много высокого дала. Но зачем игнорировать историю и уверять, будто все обошлось без кулака и будто успехи русского языка на окраинах доказывают внутреннее бессилие инородческих культур? Ничего эти успехи не доказывают кроме той старой истины, что подкованными каблучищами можно втоптать в землю даже самый жизнеспособный цветок.
Дальше следует у г. Струве аргумент, который странно даже слышать из уст такого вдумчивого, совсем не шаблонного писателя и мыслителя: «Постановка в один ряд с русской культурой других, ей равноценных, создание в стране множества культура так сказать, одного роста, поглотит массу средств и сил, которые при других условиях пошли бы не на национальное размножение культур, а на подъем культуры вообще». Такое «размножение культур» будет «колоссальной растратой исторической энергии населения Российской Империи». Это, да простит глубокоуважаемый автор, песня старая, петая, перепетая – и отпетая. Теперь от нее даже непрошибаемые социал-демократы отказались. Самое лучшее, самое прекрасное в мировой культуре – это именно ее многообразие. Каждая историческая нация внесла в нее свои особые, неподражаемо-своеобразные вклады, и в этом бесчисленном множестве форм, а не в количестве результатов и заключается главное богатство человеческой цивилизации. Если бы маленький двухмиллионный народ, населяющий Норвегию, послушался во время оно советов г. Струве и, вместо того чтобы «тратить» силы на создание собственной культуры, записался в немцы, – то в учебнике немецкой словесности числилось бы несколькими именами больше, но за то не было бы на свете того совершенно своеобразного, особенно благоухающего, индивидуально ценного божьего букета, который называется норвежской литературой. Да и нельзя никак противопоставлять «размножение культур» «подъему культуры вообще». Ибо с равным правом (а по-моему с большим) можно сказать, что «культуры вообще» нет, что это абстракция, ибо конкретно существуют (если, конечно, не считать машин и прочей мертвой утвари) только отдельные культуры отдельных наций. И это значит, что отдельная личность, участвующая в создании культуры, будь это поэт, философ, ученый или политик, может наилучше развить и использовать свои творческие силы, наиполнейшим образом sich ausleben только в родной среде, в родной обстановке и атмосфере, где все хотя не осязаемо, но ощутимо пропитано родными соками. В чужой обстановке значительная часть творческих сил уходит на преодоление какого-то естественного трения, хотя бы иногда неосязаемого, и потому резуль– таты такого творчества меньше и беднее. С этой точки зрения стоит (даже в интересах «подъема культуры вообще») потратить много сил и много лет на создание особой бурятской или якутской культуры. чтобы создать обстановку, в которой потом бурятские и якутские таланты разовьются лучше, полнее и с большею пользой для человечества, чем развились бы в «общерусской» среде, созданной и пропитанной влиянием других наций. Раздробление сил. «растрата энергии» тут с лихвою будут возмещены впоследствии интенсификацией творчества в отдельных национальных коллективах. Если тут есть «обособление». то это обособление законное, необходимое: так «обособляется» художник, когда затворяется в своем кабинете, убранном по его вкусу, никого к себе не впускает – и пишет прекрасное произведение на радость и пользу всем людям.
Но все это зады, которыми прилично было заниматься лет пять или шесть тому назад, когда «мы» все были еще очень наивны и верили, будто национальный вопрос выдуман злоумышленниками. Теперь, слава Богу, известно и признано, что право каждой народности на самобытную культуру определяется и доказывается не теориями, а ее собственной волей к национальному бытию. Наличность этой воли показали и малороссы, и белоруссы. и все остальные, несчетные и несметные народы Российского государства; а остальное доделает время.
1911.
УРОК ЮБИЛЕЯ ШЕВЧЕНКО
Удивительно, до чего люди непоследовательны. Когда мы произносим А. то по большей части и не думаем о том, что надо же в таком случае произнести и Б. Подходим к общественному факту так, как будто он изолирован, вырван из жизни и за собою никаких последствий не влечет. Вот теперь мы чествуем память Шевченко или, по крайней мере. откликаемся на чествование. Но при этом – никаких выводов. Не только у слушающих и у читающих, но иногда у самих пишущих незаметно, чтобы они хорошо вдумались, к чему обязывает признание этого юбилея. Ведь одно из двух: или Шевченко есть культурное недоразумение, филологический курьез и раритет, и тогда нет никакого смысла устраивать ему юбилеи; или Шевченко есть закономерное и характерное явление развивающейся жизни, симптом чего-то грядущего, и тогда каждому из нас необходимо. сказав А, произнести и Б. т.е., признав этот юбилей, определить свое отношение к тому огромному явлению, о неизбежности которого пророчествует нам этот юбилей. А об этом, кажется, мало кто думает.
Может быть, объясняется это тем, что внутренне еще многие, многие из нас и впрямь потихоньку считают Шевченко за филологический курьез. Что греха таить, многие так рассуждают. Им это кажется причудой, капризом: знал человек прекрасно по-русски, мог писать те же самые стихи на «общем» языке, а вот заупрямился и писал по-хохлацки. Другие идут еще дальше и спрашивают: да разве есть какая-нибудь серьезная разница между обоими языками? Одно упрямство, одно мелочное цепляние за отдельные буквы. Что за причуда – писать непременно так: «Думы мои, думы мои, лыхо мини з вамы! Чому сталы на папери сумнымы рядамы?» – Когда можно было с таким же успехом написать вот как:
Ах вы думы мои, думы.
Ах, беда мне с вами!
Что стоите на бумаге Грустными рядами?
Один господин недавно взял при мне в руки томик стихов Олеся и стал доказывать наглядно, что стихи эти можно читать сразу по-русски и выйдет почти все в полном порядке: и размер не изменится. и почти все рифмы сохранятся. Может быть. он и был прав: я его не дослушал до конца и, пока он декламировал на московский лад: «Ой. на що ж малу дитину доручала ти степам?» – я задумался о другом. Я вспомнил, что Шевченко писал что-то такое и по-русски. Литераторы из газеты «Киевлянин» ставят ему это в великую заслугу и стыдят теперешних ма-зепинцев: видите, он не то, что вы, он «не чуждался общерусского языка»! Допустим: но за то странным образом «общерусский» язык чуждался украинского поэта, и не склеилось у него ничего путного на этом языке. И Шевченко не единичное явление. В 40-х годах жил в Риме большой поэт Белли: о нем. кажется. есть где-то упоминание у Гоголя. Он писал главным образом на римском диалекте. Римский диалект, не в пример другим местным наречиям Италии, почти совершенно совпадает с итальянским языком: если бы не скучно было для читателя, я бы взялся исчерпать все различие ровно в пятнадцати строчках. Но Белли писал на диалекте великолепные вещи, а на итальянском языке – вещи совершенно бездарные. Его сонеты на romanesko изумительны, его итальянские элегии водянисты, риторичны и позабыты. Тоже, очевидно, крепко заупрямился человек: так заупрямился, что и сам Бог его покидал, как только он в своем творческом порыве переступал через какую-то едва заметную межу – и Белли, по ею сторону межи большой поэт милостию Божией. по ту сторону внезапно превращался в жалкого писаку…
Родной язык! Нужна вся наша российская наивность. неопытность, социальная необразованность, вся наша пигасовщина, весь грубо эмпирический площадной практицизм, исповедуемый нами по отношению ко многим священным вопросам духа, чтобы так делать большие глаза и недоумевать, зачем это нормальному человеку, при полном уме и здравой памяти, непременно упираться и настаивать на том, что говорится «свiт», а не «свет». Дурь, причуда! Мадьяры сколько лет ведут борьбу за мадьярскую команду в венгерской армии, а всего-то язык команды состоит ровным счетом из 70 слов. Из-за 70 слов падают министерства, откладываются важнейшие реформы, трещит по шву реки Лейты политическая карта Европы, В венгерском парламенте, среди четырехсот с лишком мадьяр. сидят сорок депутатов из Кроации и свято хранят свое право говорить с трибуны по-хорватски, т.е. на языке, которого никто, кроме них, не понимает и употребление которого в парламенте поэтому, казалось бы, не только бесполезно, но даже вредно для самого хорватского дела. Эти же хорваты подняли бунт. когда венгерское начальство попыталось завести в некоторых правительственных учреждениях Загреба, рядом с хорватскими вывесками, также и мадьярские: были уличные демонстрации, столкновения с войсками, лилась кровь… Дурь, причуда! – говорим мы. Мы, захолустные обыватели захолустной страны, мы, с высоты нашего политического ума и опыта. А не гораздо ли правильнее было бы взглянуть на дело с другой стороны и понять, что с фактами не спорят? Ведь тут пред нами целый ряд ярких фактов, то массовых, то еще более характерных, индивидуальных. Вот беснуются чуть ли не целые народы из-за семидесяти слов или десяти вывесок на чужом языке: вот большие поэты, мгновенно теряющие дар Божий, как только попытаются сделать внутри себя маленький, крохотный, невинный подлог: сказать «свет» вместо «свiт». «buona sera» вместо «bona sera». Это все факты, непреложные явления жизни, которые не изменятся оттого, что мы будем их порицать или одобрять. Не порицать и не одобрять их надо. не ставить двойки или пятерки мировому порядку и его проявлениям, а скромненько учиться из них уму-разуму: брать жизнь такою, какой она есть в основе своей, и на этой основе строить наше мировоззрение.
Мимо факта шевченковского юбилея мы проходим с почтительным поклоном, и нам даже не приходит в голову, что это – факт исключительной симптоматической важности, пред лицом которого, если бы мы были разумны, опытны и предусмотрительны, следовало бы пересмотреть некоторые существенные элементы нашего мировоззрения. Что такое Шевченко? Одно из двух. Или надо смотреть на него как на курьезную игру природы, нечто вроде безрукого художника или акробата с одной ногою, нечто вроде редкостного допотопного экспоната в археологическом музее. Или надо смотреть на него как на яркий симптом национально-культурной жизнеспособности украинства, и тогда надо открыть пошире глаза и хорошо всмотреться в выводы, которые отсюда проистекают. Мы сами здесь на юге так усердно и так наивно насаждали в городах обрусительные начала, наша печать столько хлопотала здесь о русском театре и распространении русской книги, что мы под конец совершенно потеряли из виду настоящую, осязательную, арифметическую действительность, как она «выглядит» за пределами нашего куриного кругозора. За этими городами колышется сплошное, почти тридцатимиллионное украинское море. Загляните когда-нибудь не только в центр его, в какой нибудь Миргородский или Васильковский уезд: загляните в его окраины, в Харьковскую или Воронежскую губернию, у самой межи, за которой начинается великорусская речь, – и вы поразитесь, до чего нетронутым и беспримесным осталось это сплошное украинское море. Есть на этой меже села, где по ею сторону речки живут «хохлы», по ту сторону – «кацапы». Живут испокон веков рядом и не смешиваются. Каждая сторона говорит по-своему, одевается по-своему, хранит особый свой обычай; женятся только на своих; чуждаются друг друга, не понимают и не ищут взаимного понимания. Съездил бы туда П.Б. Струве, автор теории о «национальных отталкиваниях», прежде чем говорить о единой трансцендентной «общерусской» сущности. Такого выразительного «отталкивания» нет, говорят, даже на польско-литовской или польско-белорусской этнографической границе. Знал свой народ украинский поэт, когда читал мораль неразумным дивчатам:
Кохайтеся, любитеся, Та не з москалями,
Бо москали– чужи люде…
Я не разделяю теории П.В.Струве и не думаю, чтобы «отталкивания» принадлежали к необходимым и нормальным жизнепроявлениям национальности: во всяком случае полагаю, что легализировать (в научном смысле) эти «отталкивания» следовало бы только с большими и суровыми оговорками. Я не считаю ни нормальным, ни вечным явлением тот антагонизм между великороссом и малороссом, который окристаллизован в простонародных кличках «хохол» и особенно «кацап»; уверен, напротив, что при улучшении внешних условий не только украинство. но и вообще все народности России прекрасно уживутся с великороссами на почве равенства и взаимного признания; даже верю. что большую и благотворную роль в этом сыграет именно великорусская демократическая интеллигенция – и недавно, в одной киевской лекции, подчеркнул эту веру настолько резко, что встретил даже несочувствие со стороны некоторых украинских слушателей. Но нельзя отрицать, что «отталкивание» от инородца есть один из признаков присутствия национального инстинкта, особенно там, где национальная индивидуальность, из-за внешнего гнета, ни в чем ином, ни в чем положительном выразиться не может. В таких случаях «отталкивание», наблюдаемое на этнографических границах, остается поневоле лучшим доказательством того, что угнетенная народность стихийно противится перелицовке своего естества, что истинные пути ее нормального развития тянутся в другом направлении. Таково стихийное настроение всякой большой и однородной массы; таково и стихийное настроение тридцатимиллионного украинского простонародия, сколько бы ни лжесвидетельствовали о противном разные эксперты из национальных оборотней. Эксперты этого рода столько же компетентны в оценке национальных чувств того народа, от которого они отстали, сколько компетентен дезертир в оценке патриотизма и боевого духа той армии, из которой он сбежал. Украинский народ сохранил в неприкосновенности то, что есть главная, непобедимая опора национальной души: деревню. Народу, корни которого прочно и густо впились на громадном пространстве в сплошную родную землю, нечего бояться за свою племенную душу, что бы там ни проделывалось в городах над бедными побегами его культуры, над его языком и его поэтами. Мужик все вынесет, все переживет, всех переспорит и медленно, шаг за шагом, но неуклонно и непобедимо со всех сторон втиснется в города, и то, что теперь считается мужицким говором, будет в них через два поколения языком газет, театров, вывесок – и еще больше.
Вот что значит юбилей Шевченко для всякого, кто умеет последовательно мыслить и заглядывать в завтрашний день. Мы, к сожалению, этими талантами не богаты. Украинское движение, растущее у нас под носом, считается у нас чем-то вроде спорта: мы его игнорируем, игнорировали до этого юбилея и будем, вероятно, игнорировать и после юбилея. Не то слепота самодовольства, не то косность человеческой мысли руководит нашими действиями, и в результате мы допускаем грубую, непростительную политическую ошибку: вместо того, чтобы движение, громадное по своим последствиям, развивалось при поддержке влиятельнейших кругов передового общества и привыкало видеть в них свою опору, своих естественных союзников, – мы заставляем его пробиваться своими одиночными силами, тормозим его успехи замалчиванием и невниманием, раздражаем и толкаем в оппозицию к либеральному и радикальному обществу. Роста движения это не остановит, но исковеркать этот рост, направить его по самому нежелательному руслу – вот что нетрудно, и вот чего следовало бы остерегаться. Самые тяжелые последствия для будущих отношений на огромном этом юге России могут отсюда родиться, если мы вовремя не спохватимся, не поймем и не учтем всей громадности того массового феномена, о котором напоминает нам юбилей Шевченко, и не сообразуем с ним всей нашей позиции, все нашей тактики в делах местных и государственных.
Выскажу одно соображение, которое давно у меня сложилось и подкреплено изучением западноевропейского опыта, но в ответ на которое читатель. должно быть. пожмет плечами. Наш юг стал излюбленной ареной черносотенства, и подвизается у нас оно, особенно в городах и местечках, с солидным успехом. И до сих пор мы себе не дали отчета, можно ли бороться против этого явления, и если можно, то как. каким оружием. А между тем вопрос этот имел бы право на всяческое наше внимание, потому что при нынешних настроениях не впрок нашему краю ни городское самоуправление, ни даже право посылать депутатов в Государственную Думу. Депутаты юга – главная опора реакции, и так было еще до изменения избирательного закона, до третьей Думы. Чем же можно бороться против этого настроения мещанских масс юга? Чистый, отвлеченный либерализм какой угодно марки им недоступен: мещанство не идет за либералами, если те не догадаются дать ему в придачу еще нечто. На социалистическую пропаганду мещанство органически не способно откликнуться: экономические идеалы этой среды всегда неизбежно реакционны и вращаются в лучшем случае вокруг средневековых идеалов цехового строя, в худшем – это мы видим в Вене, в Варшаве, на последнем ремесленном съезде – вокруг хозяйственного и правового вытеснения инородцев. Единственный идеальный лозунг, который, в данных условиях, способен поднять городские мещанские массы, очистить и облагородить их мировоззрение, – это лозунг национальный. Если они идут теперь за правыми, то ведь не потому, что правые проповедуют бараний рог и ежевые рукавицы, а только потому, что правые сумели задеть в них националистическую струнку. Но не струнку творческого, положительного национализма, а струнку «отталкивании» от инородца. И никакие на свете яркие знамена не отвлекут наше южное мещанство от лозунгов ненависти, кроме одного знамени: собственного национального протеста. Я не компетентен судить о том. насколько готова какая-нибудь Слободка-Романовка к восприятию украинского национального сознания: утверждаю только одно: выжить оттуда союзников удастся или украинскому движению, или никому. Повторяю: все это так далеко от сегодняшнего положения вещей, что читатель, я знаю, пожмет плечами и скажет: гадания, фантазии. Я же думаю, что гадают и фантазируют те, которые видят только то. что торчит на переднем плане, и не заглядывают ни в статистику, ни в историю, ни в опыт мудрого Запада. Поживем – увидим. А может быть, если не изменится вовремя наша тактика, то и почувствуем…
Когда приходится, по долгу службы, чествовать юбилей Шевченко, мы стыдливо рассказываем друг другу, что покойник, видите ли, был «народный» поэт, пел о горестях простого бедного люда, и в этом. видите ли, вся его ценность. Нет-с, не в этом. «Народничество» Шевченко есть дело десятое, и если бы он все это написал по-русски, то не имел бы ни в чьих глазах того огромного значения, какое со всех сторон придают ему теперь. Шевченко есть национальный поэт, и в этом его сила. Он национальный поэт и в субъективном смысле, т.е. поэт-националист, даже со всеми недостатками националиста, со взрывами дикой вражды к поляку, к еврею, к другим соседям… Но еще важнее то, что он – национальный поэт по своему объективному значению. Он дал и своему народу, и всему миру яркое, незыблемое доказательство, что украинская душа способна к самым высшим полетам самобытного культурного творчества. За то его так любят одни. и за то его так боятся другие, и эта любовь и этот страх были бы ничуть не меньше, если бы Шевченко был в свое время не народником, а аристократом в стиле. Гете или Пушкина. Можно выбросить все демократические нотки из его произведений (да цензура долго так и делала) – и Шевченко останется тем. чем создала его природа: ослепительным прецедентом, не позволяющим украинству отклониться от пути национального ренессанса. Это значение хорошо уразумели реакционеры, когда подняли накануне юбилея такой визг о сепаратизме, государственной измене и близости столпотворения. До столпотворения и прочих ужасов далеко, но что правда, то правда: чествовать Шевченко просто как талантливого российского литератора № такой-то нельзя, чествовать его значит признать все то, что связано с этим именем. Чествовать Шевченко – значит понять и признать, что нет и не может быть единой культуры в стране, где живет сто и больше народов: понять, признать, потесниться и дать законное место могучему собрату, второму по силе в этой империи.
1911.
СТРАННОЕ ЯВЛЕНИЕ
Газеты одного крупного города черты оседлости, описывая тамошнюю попытку публичного чествования памяти Комиссаржевской, устроенную литературно-артистическим клубом, отметили, что русской публики на торжестве было мало, а зато было очень много публики еврейской. Это, действительно, любопытное явление; мне давно хотелось его отметить и побеседовать на эту тему, но не решался. Ни для кого не тайна, что литературные клубы в черте оседлости вообще на девять десятых посещаются евреями; огромное большинство членов – тоже евреи. Арийский элемент представлен обычно десятком-другим отдельных любителей слова и музыки; пусть это талантливые и симпатичные люди, но их мало. Остальная, массовая часть членов и посетителей состоит из евреев.
Читатель, вероятно, тут заспорит и скажет: «Позвольте, что же в этом дурного – напротив, очень хорошо, что евреи так отзывчивы, так интересуются – это делает им честь»… Честь или не честь, это другой вопрос; но займемся пока не евреями, а русскими. Где они? Отчего не приходят? Почему они так мало отзывчивы, почему они не интересуются, почему они не хотят «делать себе честь»?
Странно, ведь арийская интеллигенция велика и обильна. Несомненно, есть же в том городе достаточно образованной русской публики, чтобы заполнить три таких зала, особенно, если присчитать учащуюся молодежь. Отчего же эти не ходят? Вот, оказывается, и в Петербурге их не было на вечере памяти Комиссаржевской. Петербург в этом отношении особенно характерен. Город русский, евреи там вряд ли составят и две сотых населения. Там тоже было, а может и теперь есть, литературное общество аналогичного типа, «объединяющее все национальности». И на рефератах этого общества очи видели ту же знакомую картину: 10-15 репрезентативных христиан из радикальной литературы, а в публике почти исключительно евреи. Что за притча? Где русская интеллигенция? Смешно ведь даже спрашивать, есть ли она в столице, интересуется ли делами культуры. Это ведь она создает русскую культуру, она создала все, что было ценного в русской литературе, она создала и Комиссаржевскую. В чем же дело?
Лучшим ответом на вопрос было бы узнать мнение самих отсутствующих – мнение тех самых русских интеллигентов, которые культуру-то создают, а на рефераты и вечера известного рода упорно не ходят. Но мне их взгляд совершенно неизвестен. Зато приходилось часто говорить об этом «странном» явлении с их, так сказать, заместителями – с еврейскими ассимиляторами. Многие из них вообще не желают говорить на эту тему. Они не замечают. Но некоторые все же разговорились и разоткровенничались. У меня получилось от этой откровенности странное впечатление. Они мне говорили известные старые вещи: что евреи – прекрасный фермент, что их миссия – будить всюду интерес к идее и культуре, что они – авангард, увлекающий за собой неповоротливых домохозяев, и пр. Я, как известно, грешник, считаю национальность альфой и омегой своей веры, дорожу ею больше, чем прогрессом, и т.д. Но. признаюсь, я совершенно не способен проникнуться этим взглядом на еврея, как на соль земли, без которой остальные вахлаки совсем бы закисли. Для меня совершенно ясно, что не только эллины в древности. но и многие народы в настоящее время, например. англичане и немцы, куда талантливее евреев во всем. решительно во всем, начиная с литературы и кончая банкирскими конторами. Я в этом не вижу никакой обиды для евреев, потому что не смотрю на них. как на народ, который всю жизнь держит перед кем-то экзамен и должен непременно получать все пятерки. Право народа на самобытность и равенство не нуждается ни в каких оправданиях. Конечно, раз мы тут по Европе околачиваемся столько веков, мы естественно принесли ей много пользы, обогатили ее жизнь; иначе и быть не могло – ведь и мы же не лыком шиты, и если занимаем среди исторических наций не первое место, то и не последнее. Но смешно пересаливать. Не будь евреев, культурный мир тоже бы теперь не в лаптях ходил. В частности, русский народ свою литературу создал без всякой помощи евреев, так же, как и французский, и английский, и итальянский. Да будет позволено спросить: если бы в Петербурге и Одессе совсем не было евреев, неужели там и здесь так-таки никогда не возникли бы литературные клубы? Мое скромное мнение таково: не только возникли бы, но и процветали бы не меньше теперешнего, только публика была бы в них – русская.
Здесь я должен привести мнение одного известного журналиста, родом из евреев. Прошу читателя не принять эту ссылку за литературный прием: это был настоящий разговор с настоящим известным журналистом еврейского происхождения. Он живет в русском городе, русскими интересами, вращается почти исключительно в русском обществе, следовательно, знает ту самую публику, которая «не ходит»: кроме того, сам пользуется репутацией умного, образованного и хладнокровного человека. Я всегда знал его за ассимилятора; впрочем, он не отрицал того, что еврейство национализируется, но не сочувствовал этому процессу. Речь зашла о том самом «странном» явлении: что «они» «не ходят». Совершенно ручаюсь за точную передачу мысли моего собеседника.
– Я вот что здесь наблюдаю уже не в первый раз,– сказал он. – Возникает какое-нибудь общество или, скажем, литературный орган: основатели его – русские люди с именами. (Это не всегда бывает так. но я нарочно беру только те именно случаи, когда основатели – русские). Когда дело наладится и машина пущена в ход, первое время все идет нормально. Русская публика интересуется, участвует, посещает, читает и сама пишет. Но со второго или третьего месяца начинается наплыв евреев. Основатели радушно их принимают, даже очень рады – знаете, нет ведь ничего добродушнее и искреннее хорошего русского интеллигента; он, право, по большей части и не замечает, кто вы такой. Через несколько недель – ваша аудитория полна евреев. И тогда вы начинаете замечать странную вещь: по мере того, как прибывают евреи, убывают русские. Не только в смысле процента, но абсолютно. Где их прежде было 100, там их остается 20. Уходят. Не ругаются, не сердятся, не жалуются, вообще ничего не говорят, а просто отстраняются. Спросишь их: почему? Сами не умеют объяснить. Да, да, вы правы, надо будет опять записаться, просто, знаете ли, вылетело из головы… Иногда я в этом чувствую привкус сознательной юдофобии; но, право, гораздо чаще ничего подобного не могу нащупать. А вижу только разительное падение интереса к делу именно с того момента, как им так ревностно заинтересовались евреи. Оно с этого мгновения как бы стало для русской публики чужим, ее туда уже больше не тянет, ей там больше не уютно и не занятно, хотя сюжеты прений или статей остались те же. Это повторяется и с обществами, и с газетами, – быть может и с партиями – и. говорю вам, не в первый раз. Чем это объяснить, я не знаю; но нельзя отрицать, что есть какое-то невидимое «отталкивание». И вот мой вывод: хорошо это или печально, но Россия должна будет пройти через полосу национального размежевания точно так же. как проходит через нее Австрия. Придется взять эту линию и евреям, отмежеваться в обоих смыслах: политически и культурно. Я, конечно, исключаю тот десяток-другой евреев, которые для еврейства – отрезанные ломти, давно ушли, завязали новые связи и пустили корни в чужой среде. Но еврейское общество в целом должно будет отграничить себя от русского и в политике и в культуре. Этим оно окажет большую услугу и себе и русским: оно им даст, наконец, возможность организоваться внутри себя. по-своему. без посторонних примесей, которые в таком количестве для них. очевидно, неприемлемы…
За точную передачу мысли, как уже сказано, я ручаюсь. Ручаться за правильность наблюдения и вывода, конечно, не мое дело. Я не знаю ни той публики, ни ее настроений. Но позволю себе напомнить тем. для которых эти щекотливые вопросы поневоле должны быть интересны, что «странное» явление все-таки должно иметь свою причину. И до тех пор. пока жива на свете логика, эта причина может быть только одна из двух. Она или в русской интеллигенции, или в еврейской. Или первая органически неспособна интересоваться, откликаться, реагировать и т.д.. и только евреи, эти единственные ангелы-хранители русской культуры в Петербурге и на окраинах, еще спасают положение, держат знамя и прочее, и тогда остается только изумляться, откуда у этого равнодушного русского племени взялось столько творческого подъема, чтобы создать без всякой еврейской помощи Толстого или Комиссаржевскую. Или – их к евреям просто «не тянет», и когда они видят, что на их собственном празднике танцует слишком много евреев, то даже лучшие из них предпочитают праздновать у себя дома: и если это так, то евреям и дальше придется нести на себе лестную роль единственных музыкантов на чужой свадьбе – с которой хозяева ушли.
1912.
НА ЛОЖНОМ ПУТИ
Заметка о «странном явлении» вызвала оживленный газетный спор, но спор этот, к сожалению, пошел по нелепой линии. Получилось такое впечатление, точно я в своей заметке спрашивал русских: почему вы, добрые люди, не ходите в собрания? Не потому ли, что вам не хочется якшаться с евреями? И вот, несколько почтенных русских сограждан удостоверили, что они, напротив, очень рады якшаться с евреями, да только как-то все не случалось. – и несколько почтенных еврейских коллег тоже откровенно признались, что настоящая русская интеллигенция чрезвычайно любит еврейскую. Очень приятно, прочел с удовольствием. Но зачем это все было написано – не знаю. Я этого вопроса не ставил. Отчасти потому, что нет смысла наивничать и спрашивать «любишь ли ты меня?» там, где каждый ребенок на улице знает всю правду. А главным образом потому, что как раз я меньше всего этим вопросом интересуюсь. По-моему, он никакого отношения не имеет даже к спору о том. надо ли «размежеваться». Журналист еврейского происхождения, о котором я в той статье рассказывал, действительно дошел до мысли о необходимости «размежевания» только потому, что заметил со стороны русских явное нежелание «якшаться». Но на то он ассимилятор. Для людей моего лагеря суть дела совершенно не в том, как относятся к евреям остальные народности. Если бы нас любили. обожали, звали в объятия, мы бы так же непреклонно требовали «размежевания». Ибо мы думаем. что миссия каждой нации – создать свою особую культуру: и мы думаем, что это достижимо только путем полюбовного размежевания. Какое нам дело с этой точки зрения до любви или антипатии соседей? Если они евреев не любят, мы об этом очень жалеем; если полюбят, будем очень рады и будем платить взаимностью, но наше отношение к ассимиляции от этого не зависит. Мы не желаем, чтобы евреи стали русскими, даже если русская интеллигенция начнет скопом ходить на вечера литературного клуба.
Моя заметка имела в виду совершенно другую цель. Интересует меня не отношение христиан к еврейской ассимиляции, а самочувствие еврейских ассимиляторов. Я считаю их позицию в основе и по существу ложной и стараюсь проследить и отметить те случаи, когда эта внутренняя ложь обнаруживается особенно выпукло, когда сама жизнь, так сказать. демонстрирует против ассимиляции. Такой случай, по-моему, теперь налицо, когда ассимилированные евреи в огромном городе вынуждены фигурировать в роли единственных носителей русской культуры – «единственных музыкантов на чужой свадьбе, с которой хозяева ушли». На эту ситуацию я хотел обратить внимание самих «музыкантов», предложить им обдумать ее и сделать выводы. Так как дискуссия вместо того направилась по совершенно постороннему фарватеру, то позволю себе вернуться к сути вопроса и сделать эти выводы так. как я их понимаю.
Совершенно неопровержимо установленным я считаю тот факт, что ассимилированные евреи в нашем городе действительно очутились в роли единственных публичных носителей и насаждателей русской культуры. Этого никто во всей дискуссии даже не пробовал отрицать, ибо это слишком яркая очевидность. Обсуждая и оценивая эту любопытную ситуацию, я прежде всего нахожу ее в высочайшей степени комичной.
Почему она комична – я доказать не умею. Смешное не доказывается, анекдот не требует аргументации. Комизм ощущается непосредственно, и баста. И я утверждаю, что этот комизм положения, когда евреям в полном одиночестве приходится чествовать Пушкина и Комиссаржевскую, ощущается решительно всеми, прежде всего самими «музыкантами». Я часто встречаюсь со своими противниками, но не встретил еще ни одного, который не чувствовал бы этого комизма. Иначе нельзя объяснить и переполоха, который вызвала именно эта моя заметка. Мне случалось уже писать, например, и о том, что много рядовых либеральных христиан в глубине души верят в ритуальную сказку; это похуже, поопаснее, чем нехождение на «четверги», и однако никто из ассимиляторов так не взволновался, как на сей раз. На сей раз было такое впечатление, словно людей вдруг обнажили, указали пальцем как раз на ту мозоль, за которую им в душе особенно неловко, и вот они изо всей силы стараются прикрыть ее чем попало. Очевидно, каждый в душе чувствует, что «ассимиляция». «слияние» с окружающей средой обязательно требует «рецепции», согласия окружающей среды: для того.чтобы обрусение не было унизительным, необходима тут же наличность большой русской толпы, в которой евреи могли бы рассыпаться, разместиться, растаять – и притом с ее хотя бы молчаливого согласия. Тогда бы в этой массе действительно все перемешалось; рядом с тремя русскими ораторами мог бы тогда выступить четвертым и еврей и тоже сказать «мы, русские» или «наша русская литература» – и это стерлось бы, утонуло бы в общем впечатлении. Но когда русской толпы нет и никак ее не заманишь и не притянешь, и на празднествах русской культуры в полумиллионном городе одни евреи, совершенно лишенные русского прикрытия, бьют в барабан и кричат «ура» во славу «нашей литературы». – то эта ситуация комична, потому что комична. Лет пять тому назад польская печать горячо обсуждала вопрос, ехать ли в Прагу на всеславянский съезд: наконец все согласились, что надо ехать – Роман Дмовский согласился, Сенкевич согласился, графы Тышкевичи, князья Радзивиллы и прочие лидеры и магнаты согласились. Один только Станислав Кемпнер (тот самый, которого Немоевский называл потом «Шая Кемпнер») долго еще упирался и настаивал. что «мы, поляки», не должны ехать в Прагу, ибо это братание с остальными славянами может повредить «нашим» польским интересам. Может быть, я неточно помню все имена, но случай этот был. И вся Польша хохотала над этим сверхполяком и была права, потому что это было комично. Ассимиляция по природе своей требует незаметности, наглядной возможности утонуть в громаде ассимилирующего тела: где девять русских, там еврей еще кое-как может быть «десятым русским»; но когда пропорция обратная или того хуже – весь. как говорится по-еврейски, «миньян» состоит из великороссов еврейского происхождения, то это есть явление высочайшего и глубочайшего социального комизма.
Конечно, когда обнаруживается социальный комизм какой-нибудь ситуации, разные люди по-разному на это реагируют. Одни, у которых более плоская душа и более толстая кожа на ланитах, продолжают выступать гоголем; о таких нечего разговаривать, так как это элемент, лишенный всякой культурной ценности. Но есть и в ассимилированном лагере люди более тонкой организации. Для таких увидеть себя в ситуации, полной такого органического комизма, есть болезненный удар в ту самую точку сердца, где хранится у человека его лучшее богатство – его гордость. Для таких людей комизм превращается в трагизм. Я уверен, переполох, вызванный в стане ассимиляторов дискуссией по поводу «странного явления», объясняется еще и тем, что лучшие, наиболее чуткие и вдумчивые люди этого стана почувствовали не простую неловкость от комического положения, но и настоящую боль, укол в самое чувствительное место, и им на минуту стало жутко от мысли: а что, если все это правда? А быть может, я и сам давно все это подозревал, только не решался формулировать? И на минуту почудилось им. что, быть может, вся работа их жизни действительно прошла по ложной колее и завела их вместе с их паствой. куда не надо… Но, конечно, даже чуткий человек, если он уже затратил несколько десятков лет на данной черте, в конце концов прогонит черные мысли и даст себя успокоить обычными словесами. Остается только маленькая трещина в душе – и если она осталась, я очень рад: этого я добивался. Но патологичность ситуации не только в ее комизме и даже не в трагическом привкусе этого комизма. Еще хуже другое. Хотя мы здесь «шумим, братец, шумим», а настоящие русские молчат, но тем не менее для всего мира ясно глубокое несоответствие между шумом и ценностью. Ни один серьезный зритель не сомневается, что хоть шумят на русских культурных праздниках евреи, а все-таки истинной. стихийно-нерушимой опорой и источником русской культуры служат не те, которые шумят, а те, которые молчат. Если судить по шуму, то выходит, будто русские 1-го разряда, активные русские – это и есть ассимилированные евреи, тогда как люди настоящего русского происхождения – это как выражается Отто Бауэр, Hintersassen der Nation, русские 2-го сорта. Между тем ясно и неопровержимо, что это в сущности как раз наоборот. Именно с момента. когда еврей объявляет себя русским, он становится гражданином 2-го класса.
Я, националист, ни за что не признаю себя в России гражданином 2-го разряда. Я считаю себя принципиально таким же хозяином в этом государстве, как и русского: я желаю говорить, учиться, писать. судиться, управляться на моем национальном языке, ни к кому не намерен подлаживаться и приспособляться и требую, напротив, чтобы государство приспособлялось к моим национальным домогательствам точно так же, как оно должно приспособиться к домогательствам русских, украинцев, поляков, татар и т.д., гармонизировав эти все требования в общем «народо-союзном» строе. Покуда я так смотрю на свое место в России, я не выше других и не ниже других, мы все граждане одного ранга. Но если я захочу пролезть непременно в русские, то дело сразу меняется. Тут я попадаю в положение неофита. Чужая национальная сущность, чужая психика и ею пропитанная культура не могут быть по-настоящему усвоены даже за срок целого поколения, даже за срок нескольких поколений. Сохраняется акцент в речи, и точно так же сохраняется особый «акцент» души. Могут ли эти оттенки совершенно исчезнуть впоследствии, через много-много лет, это вопрос другой, которого я здесь не касаюсь; но покуда они есть, до тех пор я обречен числиться не настоящим, неполным русским. кандидатом в русские, подмастерьем русско-культурного цеха. Меня могут любить или не любить, это к делу не относится: но совершенно ясно, что источник и оплот русской культуры не в неофите, а в той массе, с которой он еще только старается слиться. Когда людям понадобится настоящее русское творчество, они оттолкнут изделие неофита и скажут: может быть, это подделано очень мило, может быть, это и лучше, чем настоящее русское, – но извините, нам нужно не это, а настоящее русское. Это и значит быть русскими 2-го разряда. Надо различать понятия: россиянин и русский. Россияне мы все от Амура до Днепра, русские только треть в этой массе. Еврей может быть россиянином первого ранга, но русским – только второго. Так на него в этой роли смотрят другие, и так на себя невольно смотрит он сам.
Здесь я не буду вновь поднимать спор о том, многим или малым обязана русская, немецкая, французская и пр. литературы ассимилированным евреям, достаточно ли усвоили эти писатели из евреев соответствующий национальный «дух» и т.д. Спорить об этом трудно потому, что это вопрос чутья, ощупи, и еврейские судьи тут совершенно не компетентны. Сколько бы ни божился еврейский критик, что Гейне – подлинный немец по духу, вопрос этим не будет решен. Но я интересуюсь этим вопросом больше с политической стороны. Здесь дело яснее, здесь мы не бродим в потемках эстетических оценок, а имеем пред собой массовые факты. И эти факты ясно говорят, что ассимилированный еврей при первом серьезном испытании всегда и всюду оказывается таким же плохим «ассимилятором», как и плохим евреем. Он объявляет себя немцем, покуда господствуют немцы, и старается делать так, чтобы по виду его нельзя было отличить от настоящего немца. Но как только господство переходит к другой национальности, моментально обнаруживается различие: настоящие немцы остаются немцами, выдерживают борьбу и несут на себе все жертвы, между тем как тевтоны израильского происхождения с поразительной быстротой начинают отрясать прах немецкий и присоединяться к национальности нового хозяина. Я уже несколько раз вскользь упоминал об этих поразительных превращениях, но стоит еще раз на них остановиться, и подробно, ибо они гораздо яснее всех прочих доводов показывают истинную внутреннюю прочность еврейской ассимиляции.
В 40-х годах прошлого столетия Австрия, включавшая тогда и Венгрию, была почти сплошь онемечена. По крайней мере, так должно было показаться туристу, который посетил бы города империи. Только на юго-западе, в итальянских провинциях, он нашел бы сильную итальянскую культуру – и то с большими немецкими заплатами; но Будапешт весь говорил по-немецки, мадьярская речь едва слышалась на задворках; в Праге и думать забыли о том. что где-то на свете есть чешская речь; и даже в Галиции немецкая речь на улицах, в официальных учреждениях, в университетах и на вывесках соперничала с польской, и большей частью победоносно соперничала. Словом, картина онемечения городской Австрии была полная. Где-то в деревне прозябали чешские, словинские, русинские мужики, но с ними никому и в голову не приходило считаться: казалось совершенно ясным, ясным прежде всего для них самих. что их речь – мужицкая речь, для культурных целей непригодная, и для каждого порядочного человека просвещение – синоним германизации. Некоторые сомнения вызывали упрямые итальянцы, беспокойные мадьяры и крамольные поляки, но благоразумные люди надеялись, что и эти злоумышленники сами поймут свою ошибку. Ведь человечество должно сближаться, а не разделяться: это проповедывал еще мудрый император Иосиф II, начертавший в одном декрете: «Нет лучшего средства приучить граждан ко взаимной между собой любви, как дав им единый общий язык». И в доказательство сослался – на Российскую Империю. Но прав он был в том отношении, что внешняя культурная физиономия Австрии в его время и десятки лет после него была очень похожа на тогдашнюю или теперешнюю культурную физиономию России: и там, как тут, господствовали почти нераздельно язык и культура главного хозяина; и там, как тут, совершенно или почти совершенно забыли о существовании других народностей.
В этой обстановке началось пробуждение австрийского еврейства. Выйдя из гетто, сняв халаты, подрезав пейсы, его передовые сыны осмотрелись вокруг и увидели, что все приличное общество говорит по-немецки. Они тоже заговорили по-немецки; это им далось даже легче, благодаря жаргону, чем соседям. В Праге, во Львове, в Будапеште евреи начали считать себя немцами, были очень довольны таким повышением в чине и думали, что на этом можно и успокоиться.
Но вот они стали замечать, что, например, в г. Праге начинает твориться что-то странное. Какие-то оригиналы вдруг затеяли говорить по-мужицки, и не только у себя дома, но и на улице, и в театре, да нарочно так, чтобы все слышали. Сначала это смешно, потом начинает раздражать. Тем более, что эти оригиналы выдвигают еще в придачу какие-то претензии. – Мы, чехи, в этом крае большинство, – заявляют они, – а потому Прага должна быть наша. в судах и школах и даже в университете должен господствовать наш язык, а немецкому достаточно места в Вене. – Слыша такие вздорные речи, немцы пожимают плечами: как смеют мечтать о таких вещах эти санкюлоты, у которых даже литературы еще нет? А они отвечают: у нас есть Ганка, Палацкий. Краледворская рукопись; начало есть. а продолжение будет. Немцы сначала отшучивались, а потом стали сердиться и отвечать возгласом: долой чехов!
И тут евреи попали в щекотливое положение. Раз они записались в немцы, то надо было показать себя хорошими немцами. А так как еще к тому же настоящие немцы немного косились на них и не вполне им еще доверяли, то надо было особенно постараться – так сказать, перекричать самого заправского немца. Кроме того, их и в самом деле раздражали претензии некультурного чеха. Как так? Значит, в Праге будет, например, в городском театре не немецкая, а чешская драма? В обществе придется вести светский разговор не по-немецки, а по-чешски? Этим бедным людям с таким трудом дался немецкий язык, столько пришлось попотеть над устранением предательского акцента – и что же. все это насмарку? Начинай сначала учиться по-новому? Нет, не бывать тому! И вот. наравне с немцами и еще громче немцев начали евреи подпевать: долой чехов! Прага «наша», немецкая!
Но чехи не испугались ни немцев, ни евреев. Шаг за шагом, день за днем, наползали из деревни в Прагу чешские муравьи, постепенно проникали во все щели и по крохам строили свою культуру. У них появились газеты, книжки, потом книги, потом целая литература, потом гимназия, потом университет. И вдруг, в один прекрасный день. немцы Моисеева закона не узнали своей Праги. От немецкого всевластия остались одни огрызки. В городской думе ни одного немца, на улицах и в театре чешская речь. придешь в магазин – не желают тебе отвечать по немецки, а если ты сам купец – изволь говорить с покупателем по-чешски, а то наденет шапку и уйдет в соседнюю лавку – к чеху. А в газетах, лаже самых либеральных, очень недвусмысленно пишут, что евреям следовало бы поостеречься насчет немецкого рвения, потому что, ежели немцам мы его прощаем. то уж евреям не простим. И… евреи начали понемножку переписываться из немцев в чехи. Появились чехи Моисеева закона. Сначала мало, потом больше. а теперь большинство. Но так как настоящие чехи кричат: «долой немцев», а еврей старается быть совсем как настоящий чех и даже еще лучше, то дети или младшие братья тех. что кричали когда то «долой че хов!» – тоже кричат вместе с новыми хозяевами: «Долой немца!»
То же самое было в Галиции. Известно, до какого раболепства дошел теперь на польской службе галицийский ассимилятор, знаменитый «Мошко». Он и туда, он и сюда, он за польщизну душу готов положить, он за польскую культуру согласен раздавить и русин, и евреев, а уж немцев, притесняющих «его братьев» в Познани, он ненавидит выше всякой меры. Но хотите знать историю этого польского энтузиазма? Ярким образчиком ее был покойный депутат Эмиль Бык, член польского коло и ярый полонизатор, умерший в 1906 г. Не далее, как в 1873 г. он еще состоял всей душой в немцах, разъезжал по Галиции и агитировал, чтобы все евреи записались в немецкую партию. Но потом, хорошенько осмотревшись и увидев, куда ветер дует, он «перестал быть» немцем и «сделался» поляком с той же легкостью, с какой человек из маклера становится сватом, и с тех пор не было у поляков в Галиции более верного лакея и у немцев более грозного врага. И эту эволюцию проделало все старшее поколение ассимиляторов. Когда-то они состояли в немцах и ворчали на поляков: теперь они состоят в поляках и стараются делать все так, как делают настоящие поляки. Но настоящие поляки боятся теперь в Галиции не немца, а нового врага. На сцену все решительнее выдвигается новый претендент: русины. Их в Галиции 3 миллиона, а в восточной половине они составляют огромное большинство; Львов лежит в Восточной Галиции, а потому они заявляют на него самые категорические притязания. Это не Лемберг. говорят они. и не Львув. а Львив, столица австрийской Украины: город этот должен быть наш, в судах, в участке, в университете должен господствовать украинский язык. а для польского довольно места и в Кракове. Иными словами, повторяется история с Прагой… И духовные братья Эмиля Быка, с недальновидностью, типичной для всех ренегатов, во все горло подхваты вают лозунг «долой гайдамаков!» – забывая, что через 30 лет эти «гайдамаки» неизбежно будут полными господами Восточной Галиции… Впрочем, что за беда? Мошко тогда перевернется в третью национальность.
Я теперь не спорю о том, хорошо это или дурно с нравственной точки зрения. Настаиваю только на одном: это факты, и эти факты неопровержимо доказывают одно: когда еврей воспринимает чужую культуру, превращается в немца, чеха или поляка, то каков бы ни был его энтузиазм, нельзя полагаться на глубину и прочность этого превращения. Ассимилированный еврей не выдерживает первого натиска, отдает «воспринятую» культуру без всякого сопротивления, как только убедится, что ее господство прошло и хозяйское место переходит в другие руки. Он не может служить опорой для этой культуры: с каким бы он пылом о ней ни говорил, неглубокость и непрочность корней, которыми она связана с его душой, обнаруживается при первом серьезном испытании. К этому выводу приходят все авторитетные наблюдатели национальных отношений, самые серьезные, самые спокойные, как проф. Раухберг в своем капитальном труде о Богемии, как M.Hainisch в своей обстоятельной статистико-экономической монографии о перспективах австрийского развития. И даже социал-демократ Шпрингер, говоря о венгерских евреях, которые тоже 60 лет тому назад «были немцами», а теперь на каждом шагу поют гимны «нашей мадьярской культуре», – ставит им уничтожающий прогноз: «Они останутся мадьярами, покуда венгерским государством правят мадьяры, – ни минуты дольше». Но настоящие мадьяры, и потеряв владычество над инородцами, все же останутся мадьярами – и в этом, а не в шуме скажется различие между мадьярами первого и второго сорта…
Всем тем из стана ассимиляторов, которые не утратили еще прямого взгляда на вещи и самостоятельности мышления, я задаю вопрос: где доказательство, что здешние евреи сделаны из лучшей глины, чем евреи Будапешта, Лемберга, Праги? Те ведь тоже не были сознательными лицемерами, субъективно они были искренни и тогда, когда обожали все немецкое, и теперь, когда обожают чешскую или мадьярскую культуру.Следовательно, дело не в субъективном энтузиазме, который вовсе не доказывает глубины чувства, а дело в каких-то объективных моментах. которые создают действительную, кровную связь между человеком и его культурой, рожденной его предками и его братьями из его национальной души. У евреев ближнего запада этих моментов при испытании не оказалось. Почему мы забываем о том, что и нам, по-видимому, грозит точно такое же испытание? Главная масса евреев живет среди украинцев. поляков, белоруссов, литовцев: эти народы начинают теперь подымать головы так же точно, как 60 лет тому назад начали делать это чехи. Это происходит у нас на глазах, пройти мимо этого явления может только близорукий. Надо же иметь нам линию поведения не только на сегодняшний, но и на завтрашний день. Ведь одно из двух: или Россия останется в полицейских тисках, или все эти народности используют политическую свободу прежде всего для того. чтобы сделать из России большую Австрию: хотим мы этого или не хотим, это будет, и ни Струве, ни мы с вами не «уговорим» ни тридцатимиллионную массу малороссов, ни даже маленький литовский народ. Как же мы определим свою позицию к этому моменту? Какова будет наша роль в этой будущей России. где сто народов вокруг нас будут развиваться самобытно, создавая свои национальные ценности на своих языках? Останемся ли мы тогда в роли, на которую намеки есть уже и теперь – в роли единственных носителей руссификации на окраинах? Или пойдем по пути австрийских ассимиляторов, меняя национальность при каждом перемещении политических сил? Или, быть может, изберем третью дорогу, предоставим русским быть русскими, полякам поляками, а сами воздвигнем свои маяки?
Я прекрасно понимаю, что «ассимилятор» есть, чаще всего, продукт ассимиляции, и переделать себя он в известном возрасте уже не может. Он привык жить русской культурой, ему другая недоступна, и ему некуда уйти. Не обречь же себя на духовный голод. Это я понимаю. От каждого отдельного человека нельзя требовать личных жертв, да еще таких длительных, на всю жизнь. Речь идет пока не о личном поведении того или иного еврейского интеллигента. Речь идет о политической ориентации. Мы не только лично живем, но мы и прокладываем линии для будущего. Если мы попали в тупик и известной части нашего поколения уже нет из него выхода, то ведь остается долг – направить завтрашние поколения по другой колее. Созидание национальной культуры, борьба за ее гегемонию в еврейской душе – это задача и для того из нас, кому лично уже не суждено пить из ее родников. Пусть он строит для своего сына, пусть чертит план жизни для более счастливых. И главное, пусть громко признает, что его путь был ложный путь, и станет на пороге западни, куда сам попал, – станет на пороге, не пуская других.
1912.
ЧЕТЫРЕ СЫНА
По еврейскому обряду полагается, рассказывая в пасхальный вечер об исходе из Египта, применяться к психологии четырех типов детей. Один – умный, другой – нахал, третий – простак, а четвертый – «такой, что даже спросить не умеет». И надо ответить каждому по порядку, каждому по его вкусу и по мере его понимания.
Умный мальчик пытливо морщит выпуклый лоб, всматривается большими глазами и хочет понять, в чем было дело. Почему его предков сначала любили в Египте, приняли с раскрытыми объятиями, а потом начали притеснять и мучить: и так странно – притеснять притесняли, мучить мучили, мальчиков в воду бросали, а выпустить ни за что не хотели. – Как это понять, папа? – спрашивает умный.
«Видишь ли, сын мой, философия исхода из Египта заключается в двух фразах, которые записаны в Вечной книге. Эти две фразы – как альфа и омега в азбуке, начало и конец благополучия твоих прадедов в Египте: и еще можно сравнить их с двумя полюсами, между которыми проходит ось. а вокруг этой оси вращается весь еврейский вопрос в Египте. И не в одном Египте. Когда вырастешь и будешь читать много книг, ясно тебе станет, что во всех скитаниях твоего народа, в каждом этапе есть и эта альфа, и эта омега; что каждый этап с того же начинается и тем же кончается, чем начался и кончился в Египте: и что полюсы, между которыми судьба швыряет твое племя, с той незапамятной поры не изменились и не передвинулись.
Что же это за две фазы? Одну ты найдешь в книге Бытия, где рассказывается, как Иосиф представил фараону своих братьев и что им перед этим советовал. Умный и хитрый человек был Иосиф, истинный сын отца своего Яакова, того самого, который так ловко обошел и собственного родителя, и брата, и тестя, что антисемиты – об этом ты в свое время узнаешь – называют его «первым жидом на земле». Ты, кстати, этого не стыдись, потому что умел Яаков и хитрить, умел и бороться – с самим Богом боролся лицом к лицу всю ночь до зари, и остался непобежденным; умел и любить и четырнадцать лет служил батраком за любимую женщину. Был это удалой человек, на все руки мастер, и купец, и боец. и рыцарь, и судья, хищный и благородный, осторожный и отважный, расчетливый и сердечный – настоящий человек, широкий, с великими доблестями и недостатками, с душой, как семицветная радуга, или как арфа, на которой все струны. Жизнь его была и осталась самой увлекательной поэмой, какая только рассказана была на земле, и ты читай ее почаще и учись из нее уму-разуму. Учись и любить, учись и бороться, учись и хитрить, ибо земля есть волчье царство. где нужно владеть всеми орудиями защиты и натиска.
Сын его Иосиф был тоже умен и хитер. Знал он хорошо все дела египетские, знал. чего египтянам недостает, а особенно хорошо знал душу фараона и его людей. И вот дал он своим братьям. которые просились в Египет, такой совет: скажите, что вы скотоводы. И прибавил фразу, которую ты. сын мой. затверди на память, ибо в ней скрыта главная мудрость нашего народного скитания: «Ибо мерзость для египтян всякий пастух».
Вторую фразу ты найдешь в книге Исхода. Прошло уже много лет, одни говорят – 400, другие меньше, но. во всяком случае, давно умер и Иосиф, и братья его, и все то поколение, и тот фараон, который знал Иосифа, Воцарился новый царь и нашел, что потомки Иосифа чересчур сильно расплодились. Тогда и произнес он вторую фразу, которую надо тебе затвердить на память, ибо с тех пор и поныне замыкается этой фразой каждый привал, каждая передышка твоего народа на пути его скитаний, и как только прозвучит эта фраза, приходится ему опять укладывать пожитки в дорожную торбу. «Давайте ухитримся против него, чтобы он не умножился», – сказал новый фараон.
Из этих двух фраз, сын мой, складывается, в сущности, вся философия наших кочевании. Ты спросишь: как так? Зачем велел Иосиф своим братьям назваться скотоводами, если скотоводы – мерзость в глазах египтян? А в том-то и дело. Заниматься пастушеским делом египтяне считали непристойным, но скота-то у них было много, и творог они ели с удовольствием. Потому и нужны были им скотоводы. Сам фараон, когда услышал то, что сказали ему сыновья старого Яакова по мудрому совету Иосифа. очень обрадовался и тотчас распорядился назначить их смотрителями царских табунов и стад. И вообще. должно быть. не малая радость была в Египте, что, вот, нашлись добрые люди. которые за нас сделают то, чего мы сами делать не любим…
Что же произошло за те годы, что отделяют эпоху первой фразы от эпохи второй? Почему вдруг стали так обременительны потомки ханаанских скотоводов? Неужели решено было во всем Египте не держать более скота? Напротив. Скота было много, и египтяне очень им дорожили: одной из самых чувствительных казней оказался для них, по преданию, падеж скота. В чем же дело? Ты не понимаешь? Сын мой. если бы ты знал историю наших новых скитаний, ты бы легко догадался, в чем причина охлаждения, – очевидно, египтяне сами за это время привыкли к скотоводству. Сначала стеснялись и гнушались, а потом научились у евреев же. начали делать на первых порах робкие, единичные попытки, а потом приободрились. вошли во вкус занятия – и в один прекрасный день вдруг нашли, что теперь евреев слишком много, и можно бы уже и без них смело обойтись. Конечно, не сразу: массового ухода фараон не хотел допустить, ибо тогда все-таки еще могла бы остаться без присмотра известная часть отечественной скотины. Но помаленьку, полегоньку, через постепенное вымирание – это дело другое, перспектива приятная и не грозящая никакими неудобствами, ибо тем временем коренное население окончательно приберет к своим рукам всю захваченную чужаками отрасль отечественного хозяйства. И вот, «давайте ухитримся»…
Так, сын мой, с тех пор и пошло. Будешь ты потом изучать историю наших скитаний по белому свету и увидишь, что всюду было то же самое. Начиналось с того, что «мерзость для египтян всякий пастух», и потому опальные профессии охотно предоставляли нам.
У египтян был своеобразный вкус, и им не нравилось именно скотоводство. А, например, у европейских народов был вкус другой, и им долго не нравилась торговля. Быдло пахало землю, а знатные господа пили вино и разбойничали по большим дорогам, грабя проезжих купцов. Грабить купца считалось вполне приличным, но быть купцом считалось очень неприличным. Эта была «мерзость для египтян». И эту «мерзость» отмежевали нам, да еще как охотно. Давали привилегии, защищали от дворян и черни; от времени до времени грабили нас и жгли, но потом опять задабривали привилегиями. Один ученый немец Зомбарт, хорошо изучивший все это дело, утверждает, что вместе с евреями шел по Европе из страны в страну всякий хозяйственный прогресс, что они, собственно, дали миру ту международную торговлю, без которой величайшие столицы земли по сей день остались бы грязными захолустьями, они развили кредит и банковое дело, они снарядили Колумба на открытие Америки. И пока они все это делали и, зарабатывая для себя тысячи, клали десятки миллионов в ненасытную утробу фараоновых карманов, – европейцы приглядывались, учились. стали пробовать и свои силы, привыкли, приободрились, вошли во вкус «мерзости» – и, конечно, вдруг увидели, что евреев развелось что-то слишком много. «Давайте ухитримся»… Когда мальчик научился грамоте, гувернера выбрасывают на улицу. Так это и повторялось с твоими предками в каждой стране. Примут, окажут покровительство, возьмут, что надо. а потом начнут «ухищряться, чтобы он не умножился…»
Ты не думай, сын мой, что слово «мерзость» надо понимать в буквальном смысле. Часто египтяне чуждаются пастушества не потому, что оно мерзко в их глазах, а потому, что руки у них коротки или страшно обжечься. Тогда они очень бывают рады, если найдется пришелец, у которого руки подлиннее и пальцы не боятся ожога, – и станет таскать для них каштаны из огня. Так бывало, например, при некоторых революциях. В 1848 году в Вене первую революционную речь произнес еврей Фишгоф: а в Берлине тогдашний король издавал прокламации, где уверял, что все это евреи бунтуют, и когда хоронили убитых, то, действительно, много работы по отпеванию выпало на долю тамошнего раввина. Зато и ласковы были с нами тогда египтяне. А потом – вымерло то поколение египтян, и дети его снова нашли. что слишком много осталось потомства от Иосифа, так недавно обжигавшего для них пальцы горячими каштанами…
«Так было, так есть, так будет».
Второй мальчик – «нахал» – сидит, развалясь, заложив ногу на ногу, иронически скалит зубы и спрашивает: – Что это у вас за курьезные какие-то обычаи и воспоминания? Пора бы давно забыть старые глупости!
Расскажите ему, в ответ на насмешку, что были уже такие, как он, были и в старом Египте. Скалили зубы на все надежды своего племени и предпочитали льнуть к стороне фараона. Об одном из них уцелела память и в Библии. Юноша Моисей заступился за еврея, которого бил египтянин, и убил того египтянина, а другой еврей это видел и вознегодовал на Моисея. Можно ли поднять руку на хозяина? И на завтра он или другой из его породы начал показывать зубы Моисею. «Кто тебя поставил начальником и судьею над нами?» А потом еще кто-то из этой породы донес фараону, что явился такой опасный фантазер и занимается перевоспитанием еврейской воли. В те времена мир был устроен просто, общественного мнения не существовало, и потому доносчик обратился прямо во дворец: будь это в наше время, он, вероятно, как человек приличный, избрал бы другие пути, постарался бы очернить Моисея не перед личным, а перед коллективным фараоном – перед просвещенным обществом Египта. Про убийство насильника он, как человек приличный, умолчал бы. но обрушился бы на ту психологию, которая побудила Моисея обратить внимание, изо всего множества насилий, несомненно чинимых ежедневно в Египте, только на эту расправу египтянина с евреем. Мало ли вообще было рабов в Египте? Зачем такой человек, как Моисей, тратит свои силы на эмансипацию какой-то горсти пастухов, а не на преобразование и обновление всего Египта? И куда это он их зовет? Господи! Да разве не грех оторваться от этой богатой страны, где есть в изобилии всякая всячина, и хлеб, и горшки с мясом, и лук, и чеснок, и много папирусов, исписанных мудрыми иероглифами, тогда как родичи Моисея – бедняки без собственности и культуры? «Что это у вас за выдумки?» – иронически спрашивал тот человек у Моисея и Аарона, развалясь, заложив ногу на ногу и оскалив зубы.
«Притупи ему зубы», – советует относительно этого сына ритуал пасхальной вечери. Но я сомневаюсь, чтобы можно было притупить ему зубы. Он слишком хорошо вооружен, ибо ведь нет ничего более непобедимого, чем равнодушие. Ничем вы его не прошибете: раз он уже научился говорить о своем народе: «у вас» – пиши пропало. Он вас высмеет, а материалу для насмешки у него сколько угодно. Над побежденными нетрудно издеваться, особенно когда издевающийся – свой человек и знает все раны и прорехи. Шишек на лбу у нас много, спина порядком сгорбилась, от векового перепугу руки трясутся:
скарб наш убог и сделан по старой моде… Есть над чем посмеяться при желании, уничижительно сравнивая нашу скудость с богатством Египта. Правда, сынок этот и сам-то Египту приходится седьмой водой на киселе; но ведь известно, что с наибольшим презрением к бедному родичу барина относится не сам барин, а его лакей. Оскалит на вас зубы. и ничем вы их не притупите.
Да и не надо вам притуплять зубы этого сына. Пусть идет своей дорогой с крепкими зубами. Бедняга, они ему еще понадобятся там. в стане ликующих. куда его тянет. Твердые орехи придется ему там разгрызать: из них самый твердый – орех презрения. И много, много раз придется ему молча глотать пинки в ответ на любовные признания и плевки в ответ на лесть, – и смиряться, и стискивать зубы. И в конце жизненного пути. когда он увидит, что весь этот путь был притворством и ложью перед людьми и собственной душою, и если сама душа и поверила этой лжи, то люди ни на минуту не поверили, – тогда бросится, быть может, в отчаянии беглый сын ваш лицом вниз, и будет ломать руки, рвать на себе волосы и грызть землю – теми самыми зубами, что теперь оскалены насмешкой над вашими святынями.
Пусть сохранит свои зубы, они ему еще понадобятся и для фальшивых улыбок, и для скрежета бессильной злобы…
А третий мальчик – простак. Глаза у него честные, ясные, прямые. Он не из тех. которые допытываются, доведываются, копаются в противоречиях. Мир для него прост и непререкаем: он любит верить и благоговеть ясной верой примитивного человека. В таком роде был простаком и Самсон: любил драться, любил и шутить, и острить, и загадки загадывать, и проказничать, и вкусно поесть, и сладко выпить, а доверчив был до того, что после трех обманов опять уснул на груди у Далилы. У сегодняшнего сына-простака нет, конечно, той полнокровной жизнерадостности, что была у Самсона – времена не те. – но основа типа та же самая – бесхитростная, прямодушная доверчивость.
– Папа! – спрашивает он. и кладет локти на стол, прижимается грудью, вытягивает шею и весь тянется к вам, словно к источнику в день жажды, и уже заранее верит во все. что скажут ему. ибо хочет верить: – Папа! Когда станет лучше?
И вы расскажите ему просто и тихо про все, что делается теперь в великой, необъятной диаспоре. Расскажите ему, как в тысяче мест тысячами рук строится вновь рассыпанная храмина бессмертного племени. Расскажите ему. как постепенно снова на наших глазах срастается распыленная доныне народная воля, как снова из обломков складывается настоящий народ, настоящий народ, настойчивый, эгоистичный. исключительный, как все здоровые нации. Расскажите ему, как рушатся одна за другою последние кафедры, с которых еще недавно раздавалась проповедь национального самоубийства. Расскажите про еврейскую молодежь университетов Берлина. Вены. про этих сыновей онемеченных коммерциепратов, про то. как они гордо носят на груди еврейские цвета:
Белый – как снег в этом крае печали Синий – как вы, о влекущие дали
Желтый – как наш позор.
Расскажите, как повсюду с каждый днем растет гордость, уважение к собственной самобытности и горькая ненависть к ренегатству; как научились и парижский драматург, избалованный успехами, и нищий шинкарь в галицийском местечке, дрожащий перед паном, кричать в лицо всему свету: я еврей! Расскажите про то, какие дивные поэты пишут теперь на нашем языке, и как прекрасен и могуч этот язык. и что за великое счастье для народа – обладать таким языком. И еще расскажите ему, как бойко и весело щебечут на этом языке дети палестинского колониста, и как шаг за шагом, по малому камушку, с великим трудом, сквозь строй тысячи препятствий, начиная с жгучего солнца и кончая пулей бедуина, воздвигается там и растет нечто новое, точка опоры для самых грандиозных замыслов и пророчеств. Расскажите простой и верующей душе все это и многое другое. Он возьмет ваши слова полными пригоршнями и бережно сложит их в открытом сердце, и с той минуты одним борцом больше станет в нашем полку.
Четвертый мальчик не умеет спрашивать. Сидит на вечере чинно, делает, что полагается, и не приходит ему в голову расспрашивать, как и что. отчего и почему. Ритуал велит не ждать его вопроса и рассказать ему все по собственному почину. Я в этом не согласен с ритуалом. Ценная вещь – любознательность; но есть иногда высшая мудрость, высшее чутье и в том, что человек берет нечто из прошлого. как должное, и не любопытствует ни о причинах, ни о следствиях. Такую мудрость надо беречь и не спугивать ее лишними словами.
Такою мудростью мудр бывает серый, массовый человек. Это – тот невзрачный горемыка, что точает сапоги, шьет платья, разносит яйца, скупает старые вещи, переписывает свитки завета, торгует в мелких лавчонках, бегает на посылках, тянет все те полунадорванные лямки, от которых его еще не прогнали. кряхтит, а по пятницам вечером наполняет дома молитвы. Это он, знаменитый Бонця-Молчальник из сказки Леона Переца, несет на своем горбу все бремя диаспоры, поставляя из своей среды человеческое мясо и для эмиграции, и для погромов: он агонизирует и не умирает, гибнет и не погибает, и творит исконный обряд, как творили деды, почти машинально, почти равнодушно, с той подсознательной верой, которая, быть может, в глазах Б-жьих прочнее всякого экстаза. Он. этот серый массовый молчальник. «не умеющий спросить», он есть ядро вечного народа и главный носитель его бессмертия.
Ритуал велит рассказать этому сыну про все то. о чем он не спрашивает. А по-моему, пусть и отец промолчит и молча поцелует в лоб этого сына – самого верного из хранителей той святыни, о которой молчат его уста.
1911.
|