Путь от штибла до хоры
Материал любезно предоставлен Jewish Review of Books
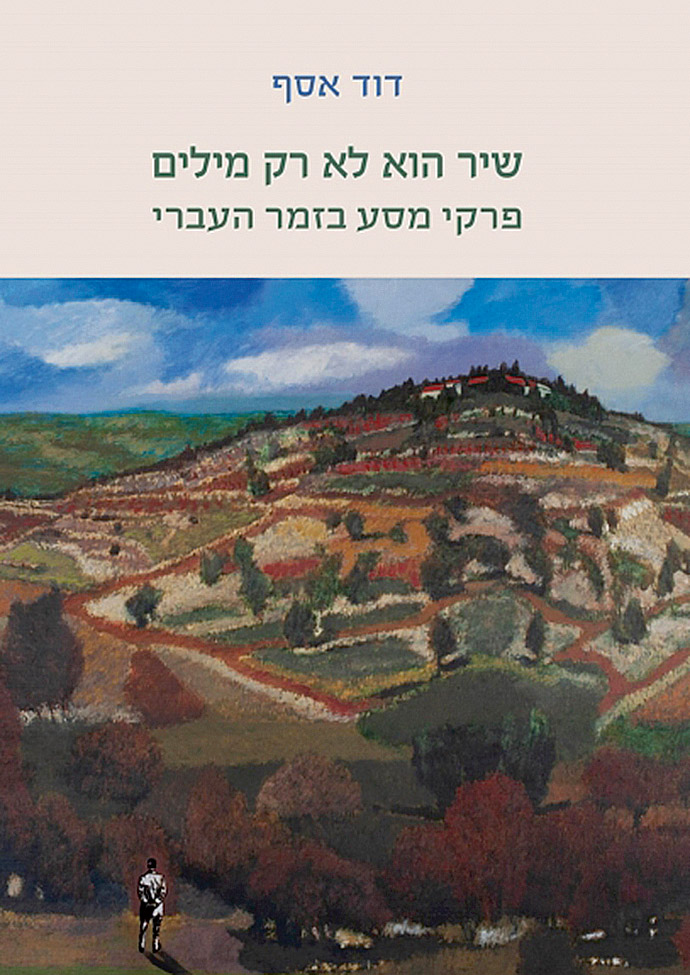
Давид Ассаф
Шир ху ло рак милим
Песня — нечто большее, чем слова
Ам Овед, 2019. 448 p.
Больше 200 песен первопоселенцев третьей алии — ядро музыкального репертуара секулярных сионистов — прежде, в «начале своей жизни», были хасидскими напевами. Прослеживая родословную израильских песен, историк Давид Ассаф в своей замечательной книге «Песня — нечто большее, чем слова» выходит далеко за пределы хасидского и даже еврейского мира, но некоторые из самых захватывающих страниц описывают путь нигуним из их изначального религиозного контекста в секулярный, порой в итоге возвращавший их в места совсем недалеко от истоков. А еще оказывается, что от штибла до хоры — необязательно гигантский скачок. (Почти все песни, которые рассматривает Ассаф, выложены, каждая в нескольких версиях, на сайте, дополняющем книгу, вы можете послушать их по ссылке)
Возьмем, например, «Рав а‑лайла» («Ночь сильна») — привязчивую песню о неистовых танцах: она просочилась в американские сионистские лагеря, а также звучит в фильмах «Исход» (1960), «Отбрось гигантскую тень» (1966) и в более недавнем «Маленьком предателе» (2007). Во втором и третьем фильмах именно под ее мелодию евреи отплясывают на тель‑авивских улицах, когда ООН приняла резолюцию о разделе Палестины («Потому что наши сердца — одно сердце, навсегда и вовеки!»). В 1947‑м этой песне не было и 20 лет, но нигун появился намного раньше.
История о том, как мелодия «Рав а‑лайла» попала из синагоги на улицы, начинается с поэта, драматурга и автора песен Яакова Орланда; он сам как культурное явление был воплощением кроссовера . Напрашивается предположение, что Орланд — сын‑отступник благочестивого восточноевропейского еврея и отринул иго заповедей, но мелодию привез с собой, когда отправился в Палестину, чтобы стать первопоселенцем. В действительности первопоселенцем был благочестивый отец Орланда. Элиэзер Орланд в 1921 году пережил кровавый погром на Украине и уехал в Палестину, обосновался в Иерусалиме, где (когда не был занят на строительстве дорог) молился с боянскими хасидим на окраине Меа Шеарим.
Однажды — было это самое раннее в 1931‑м, а самое позднее в 1933‑м — Элиэзер пришел с работы, мурлыкая одну мелодию: прилипла неотвязно. Подросток Яаков — он тогда уже постепенно утрачивал веру, а заодно приобретал профессиональные навыки — вызвался подобрать к нигуну какой‑нибудь текст, чтобы отцу было легче запомнить мелодию. Так родилась «Рав а‑лайла», о которой Орланд впоследствии написал: «Я чувствовал, что она в некотором роде укрепляет цепь преемственности между поколениями» еврейских певцов. В тексте его песни заявлено: «од нимшехет а‑шаршерет» («цепь и ныне тянется дальше»), так что об этой связи говорится в открытую.

Однако у цепи были неожиданные извивы. В 1933 году Моше‑Цви Нерия, ученик рабби Авраама‑Ицхака Кука и один из основателей движения «Бней Акива» , тоже написал на эту мелодию новый текст, больше созвучный духу его движения религиозной сионистской молодежи («О братья, давайте грянем громкий клич, пока не достигнем квуцы “Бней Акива”»).
Последний выверт в истории этой мелодии имеет мало отношения к сионизму, как к секулярному, так и к религиозному. На израильских футбольных стадионах фанаты положили на мелодию нигуна «агрессивный, вульгарный и грубый» текст — оскорбления в адрес любой команды, которая становится противником их кумиров. Это не делает чести истории ивритской песни, замечает Ассаф, но все равно относится к биографии данной мелодии, так что об этом факте Ассаф тоже рассказывает. Причем, указывает он, всякому, кто видел этих чрезмерно страстных болельщиков, известно: когда они поют в унисон, их раж «не менее силен, чем пьянящий энтузиазм первопоселенцев из [Изреельской] долины, юношеский пыл “вязаных кипот” или одухотворенный восторг хасидов во время сеуда шлишит (третьей трапезы в шабат)».
«Эй, Дарома!» («Вперед, на юг!») — еще одна хорошо знакомая (по крайней мере, ветеранам ивритских летних лагерей) песня — восходит к более секулярному еврейскому наследию: к идишской песне «Эй, Джанкойе!» Эта песня, сочиненная в СССР не позднее 1935 года, повествует о том, как евреи из опустошенных штетлов перебрались на юг, чтобы заново наладить свою жизнь в колхозах в Крыму (где находится Джанкой). На иврит ее перевел фольклорист Дов Ной, будучи в 1947 году на Кипре: приехал туда из Палестины, чтобы давать уроки еврейским беженцам, интернированным британскими властями. Среди этих людей, выживших в Холокост, был и его родной брат Меир: они увиделись впервые с 1938 года, когда Дов покинул Европу. В конце 1948 года, когда братья все еще ждали возможности выехать в Израиль, на Кипре побывал великий автор песен Хаим Хефер вместе с военным музыкальным ансамблем «Пальмаха» и ЦАХАЛа — легендарным «Чизбатроном». Хефер (занимающий в книге Ассафа чуть ли не самое большое место) узнал от братьев и выучил ивритский вариант «Эй, Джанкойе!».
Спустя несколько месяцев Хефер оказался в Беэр‑Шеве, в рядах войск, которым предстояло освободить Негев от египетских захватчиков. Обстановка вдохновила его на сочинение песни о броске на юг, и он позаимствовал мелодию «Эй, Джанкойе!». По пути на юг «Чизбатрон» репетировал эту версию «Эй, Дарома!», но теперь песня известна нам с другой мелодией. Когда бои отгремели, Меир Ной — тогда он был прикомандирован к подразделению ЦАХАЛа, которое вело культурно‑досуговую работу, заявил, что столь великую победу не стоит восславлять русской мелодией, и немедля сочинил новую музыку в энергичном маршевом темпе. Хефер охотно взял ее для исполнения на концертах.
Иногда влияние распространялось в обратном направлении — из Палестины назад в Россию. Задумчивое стихотворение Ицхака Шенхара о тяжелом труде и танцах «Кума эха» («Вставай, брат») вскоре после написания, в 1924‑м или 1925 году, положил на музыку Шалом Постольский, один из основателей кибуца «Эйн‑Харод». (Он же написал знакомую нам мелодию «Авадим айину», которую часто поют на наших седерах.) Скоро «Кума эха» стала одной из самых популярных песен, под которые танцевали хору. В 1937 году, вдохновляясь ею, создали новый танец, доныне любимый израильскими исполнителями народных танцев. Однако за год до этого мелодия (но не текст) всплыла в советском фильме «Искатели счастья» о предполагаемом «духовном омоложении» евреев в колхозах Еврейской автономной области, в Биробиджане . Исаак Дунаевский приписал себе честь написания музыки к песне, теперь носившей название «Еврейская комсомольская». Как мелодия просочилась сквозь наглухо закрытые границы СССР — из Эйн‑Харода в Биробиджан, по выражению Ассафа?

По словам дочери одного из актеров, сыгравших в «Искателях счастья», Дунаевский узнал мелодию от кого‑то из халуцим , в конце 1920‑х уехавших из Эйн‑Харода в новый советский Эдем. Звучит довольно правдоподобно, но Ассаф быстро развенчивает эту версию и предлагает другую возможную траекторию. Композитор Зиновий Компанеец, уроженец России, в 1927 или 1928 году поселился в Тель‑Авиве и женился на актрисе. В 1932 году он вернулся с женой в СССР, где утверждал, в том числе, что идишская песня «Йидл мит’н фидл», написанная в 1936 году в Польше, изначально была советской песней. Дунаевский, предполагает Ассаф, «узнал мелодию от Компанейца» в СССР.
Книга «Песня — нечто большее, чем слова» посвящена в основном ивритским песням, но идиш почти всегда витает где‑то рядом. Собственно, в первой и второй главах книги, а это одни из лучших глав, автор сосредотачивается на двух широкоизвестных идишских песнях: «Ойфн припечик» и «Майн штетеле Бельц». В первой главе Ассаф, помимо всего прочего, стремится объяснить, отчего первая песня — нежное воспоминание о хедере — была чрезвычайно популярна именно во времена, когда некоторые из тех, кому она больше всего нравилась, энергично хулили воспетый в ней институт.
Шолом‑Алейхем дружил с автором «Ойфн припечик» Марком Варшавским (1848–1907) и с энтузиазмом продвигал его творчество. Но, удивляется Ассаф, как мог великий идишский писатель написать реалистичный рассказ «Меламед Бойаз», в котором жестокосердный учитель хедера измывается над учениками, и одновременно очень рьяно пропагандировать ностальгическую песню про меламеда, ласково обучающего детишек «алеф–бейсу»? Кажущееся противоречие, поясняет Ассаф, отражает двойственные чувства, владевшие в начале ХХ века многими секуляристами, которые получили традиционное образование в хедере.
В то время многие писатели и интеллектуалы, которые уже расстались с маленькими городками и религиозными традициями, переехав в крупные города, отчетливо чувствовали в глубине души, что упадок штетла, где они выросли, — почти свершившийся факт. Также они испытывали определенную тоску по некоторым институтам старого мира, придя к мысли, что те, несмотря на все недостатки, предохраняли, словно крепостная стена, от ассимиляции. Ассаф пишет: «…те, кто с жаром пел эту песню, хотя их образ жизни был далек от старого хедера», окружили этот институт таким почтением, которого он в исторической реальности никогда не удостаивался. Огонь в очаге, согревающий ребе и его маленьких учеников, стал «не просто символом тепла, даруемого традицией, но и образом упрямого, неугасимого огня в еврейской душе, который никогда не смогут задуть тысячи ветров и бедствий».
Это суть вопроса, но далеко не вся история. Ассаф рассказывает нам, откуда взялся «Ойфн припечик» — он навеян не только нежными воспоминаниями, но и французской песней середины XIX века про учителя, который, сидя на пне на лужайке, учит детей азбуке, — и куда вскоре попал: в Тель‑Авив, где в ивритском варианте песни детей тоже ведут на природу, а вдобавок делают упор скорее на посадку деревьев, чем на обучение грамоте. Глава завершается страшными переделанными вариантами песни, сочиненными во времена Холокоста: в одной из версий вместо огня в очаге — огонь у ворот гетто, а вместо детей, которые учатся в хедере, — «йиделех», которые возвращаются после целого дня рабского труда.
В главе о «Майн штетеле Бельц» ставится вопрос, о каком Бельце идет речь. Казалось бы, самый вероятный кандидат — городок на востоке Галиции, родина белзских хасидов, в изданной после войны книге «Изкор» , посвященной этому городку, на одной из первых страниц составители с гордостью поместили текст этой песни. Другой кандидат — Бельцы в Бессарабии, и в книге «Изкор» Бельцов тоже напечатана эта песня, хотя Бельцы были вовсе не штетлом, а городом, пусть и не очень большим. Кто прав? Песня, слащавая почти до невероятия («Бельц / мой маленький город Бельц, / маленький домик, / где я провел детство! Бельц / мой маленький город Бельц. / Скромная маленькая комната, / где я смеялся вместе с другими детьми»), была сочинена для оперетты «Песня гетто», премьера которой состоялась в 1932 году на Второй авеню. Текст написал Джейкоб Джейкобс (более известный как автор стихов к шлягеру‑кроссоверу 1930‑х «Ба мир бисту шейн»). Джейкобс был из Венгрии, автор либретто — из Литвы, а автор музыки — родом из Одессы. Так почему же они выбрали название «Бельц»? В знак уважения к исполнителям главных ролей в спектакле — Изе Кремер и Леону Гольду: оба происходили из Бельцов.
Естественно, их истории Ассаф тоже рассказывает. Кремер была миниатюрной женщиной, любившей огромные ювелирные украшения, обаятельной красавицей, пленявшей всех, от Шолом‑Алейхема и Владимира Жаботинского (слушавшего ее в Одессе) до Альберта Эйнштейна (однажды она дала концерт у него дома в Берлине). Начинала она в опере, но переключилась на исполнение восточноевропейских народных песен. В начале творческого пути в ее репертуаре были песни на семи разных языках. Затем друг ее мужа, поэт Хаим‑Нахман Бялик, убедил ее сосредоточиться на идише. В 1922 году она приехала в Америку и провела там 16 лет, а затем эмигрировала в Аргентину. Леон Гольд, актер, воевавший в рядах Красной армии, в 1924 году приехал в США, обосновался в Нижнем Ист‑Сайде, выступал в идишских театрах. В 1947 году, когда театр ему наскучил, он стал кантором в небольшом городке в окрестностях Бостона.

У песни «Майн штетеле Бельц» биография такая же колоритная, как и у актеров, сыгравших в оперетте. Мировым хитом масштаба «Ба мир бисту шейн» она никогда не была, но добралась до Польши, где ее версия на польском стала одинаково популярна среди неевреев и евреев. Журналист «А‑доар» даже жаловался, что в Тель‑Авиве звуки Miasteczko Belz слышишь с балконов всех квартир. Так было в 1936‑м. Спустя несколько лет грянула беда. Ассаф пишет:
Есть много свидетельств о том, что немецкие солдаты приказывали евреям петь «Майн штетеле Бельц»: это была часть унизительных и издевательских «забав». В августе 1944 года Элиэер Унгер, молодой мужчина лет тридцати с лишним, дал показания о том, как тремя годами раньше, в ноябре 1941 года, немецкие и украинские погромщики измывались над евреями Львова, которых насильно гнали в гетто: «…погромщики насмехались над женщинами, которых гнали транзитом, раздевали их догола и приказывали танцевать и петь “Майн штетеле Бельц”». Голоса и крики пытаемых сливались с дикарскими голосами палачей и раздирали воздух.
Рецензию на столь радостную книгу не следует завершать на столь трагической ноте. Книга Ассафа повествует не столько о бедах евреев, сколько о неукротимой живучести современной еврейской жизни. Всего очевиднее это на страницах, которые Ассаф посвящает Хаиму Хеферу. Свою первую песню — «Бейн гевулот» («Меж границ») — Хефер написал в 1944‑м или 1945 году, когда служил в «Пальмахе» и нелегально переправлял беженцев в Палестину через сирийскую границу. Песня написана на мелодию русского марша, ее текст обещает раненым и престарелым путникам, которые пробираются по горам на родину, хомат маген, «оборонительный щит». (Если это выражение кажется вам знакомым, то наверняка оттого, что в 2002 году, во время второй интифады, ЦАХАЛ выбрал это название для крупномасштабной антитеррористической операции на Западном берегу Иордана.)
В середине 1950‑х Хефер написал еще одну песню, о далеко не идеальной жизни за изначальным защитным щитом. Она называется «Эйн кмо Яфо ба‑лейлот» («Ничто не сравнится с Яффой ночной») и рисует жизнь маргиналов — мультиэтнической толпы новоиспеченных еврейских репатриантов — в трущобах бывшего арабского города. Размалеванные женщины — их губная помада кровавого цвета — прохаживаются, как на параде, мимо компании, к которой принадлежат шофер Шико, стекольщик Мойше Ганифф, карточный шулер Эли Покер и полицейский‑подхалим; в финале всех их сажают в тюрьму за ограбление банка. Картина, как замечает Ассаф, некрасивая, но атмосфера удалая — и песня тоже. Я в подростковом возрасте выучил ее (кое‑как) благодаря дяде и тете: из поездки в Израиль в 1964 году они привезли мне пластинку ансамбля «А‑тарниголим» («Петухи»). Я понимал лишь отдельные места из текста Хефера, но все равно слушал песню с огромным удовольствием — чувствовал себя, как в цирке.
Песня — это, как вновь и вновь показывает Ассаф, нечто большее, чем ее текст. А его прекрасная книга — о чем‑то большем, чем песни; она представляет собой экскурс в новейшую еврейскую историю, на многое открывающий глаза (и уши). В предисловии Ассаф сообщает нам, что у него хватит материала на вторую книгу. Надеюсь, скоро он ее напишет, а тем временем я продолжу читать его еженедельный блог («Онег шабат»), где впервые, в качестве своего рода публичной предварительной версии, появлялись многие материалы, затем включенные в книгу. Рекомендую этот блог всем, кто читает на иврите.
Оригинальная публикация: From the Shtiebel to the Hora
Комментариев нет:
Отправить комментарий