Владимир Соловьев – Американский | АНАНКЕ: Кончается ли первая любовь?
И ни птица ни ива слезы не прольет
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
если сгинет с земли человеческий род…
Сара Тисдейл
Марсиане:
«Когда настанет время – в должный час
Мы приземлимся на земной поляне.
Ведь неспроста, ведь это ради нас
Самих себя угробили земляне”.
Вадим Шефнер. Элегия после третьей мировой войны
Предыстория
Нет, не то чтобы любовь и даже, может, не влюбленность, скорее подмена реальной женщины литературным образом. Теперь-то он знал это с самого начала, никаких на этот счет заблуждений или иллюзий, дежавю, отражение отражения, ньюйоркжская тень его харьковского казуса, хотя на этот раз он женился поневоле – во избежание назревающего скандала: отношения, точнее сношения между профессурой и студентами были в американских универах и колледжах под негласным табу, а после MeToo уже и под гласным. Тем более у нас в универе, где затравленный за роман со студенткой один бедолага покончил с собой. О чем я даже сочинил сказ под названием «Бесы», близкий к реальности, но не зеркаля ее.
Этот случай, однако, совсем иного рода, и я постараюсь воспроизвести его близко к реалу, зная из первых рук – и не одних. Ну, не Расёмон, конечно, куда мне до шедевра Куросавы по нешедевру Акутагавы (чем не пример, пусть редкий, превосходства кино над литературным первоисточником?), но с нескольких точек зрения, ни на одну автор не становится, сохраняя сюжетную стереоскопичность и метафорический релятивизм.
Причиной тому, что ни один из персонажей этой истории не есть мой альтер эго или альтра эго – скорее наоборот: по противоположности. Последнее слово читателю – ему судить и рядить, не мне. Мое дело – сторона. Хотя и буду продолжать встревать в чужой сюжет с собственным реминисценциями по ходу действия. То, что ни с чем не сравнивается, не существует, не я сказал.
Такова предыстория, хотя это уже история…
Харьков: Убийство
Потому и дежавю, что в другой заокеанской жизни у себя на географической родине мой герой – закамуфлируем его под «Ивана» – однажды уже схоже подзалетел с сопливкой-мокрощелкой из 9А, в которой ему, учителю литературы в той харьковской школе, померещилась то ли дика, печальна, молчалива, то ли тургеневская барышня. А может одной из них она и была или воплощала обе в ее девичьем тогда пубертате, но быстро ею быть перестала, родив ему дочку, которую он увез с собой в Америку. Чему с материнской стороны никаких возражений – бездочерие давало ей полную свободу сексуального волеизъявления.
Собственно, вырвалась на означенную волю она сразу же, отдав дань природе, как она называла рождение дочери, изменяя ему направо и налево – ладно бы, на стороне, но с его коллегами, друзьями и, что хуже всего, с врагами. Нимфетка оказалась нимфоманкой, даром, что однокоренные слова, никакого оксюморона, но как сочеталась в ней тургеневская барышня с сексуально одержимой девицей, ему было не по его насквозь олитературенным мозгам, но он продолжал любить ее, несмотря на. Как Пигмалион свою Галатею, которая из совершенной статуи превратилась в женщину со всеми ее тараканами. Точнее – продолжал любить взлелеянный им художественный образ. А потом уже – какая есть. Какая ни есть. Все равно что обнаружить под монашеской одеждой любодейку. Эффект еще тот. Говорил же кто-то из древних: горько-сладкая любовь.
Еще одна ссылка автора на самого себя: «Добро пожаловать в ад/рай», был у меня сказ под таким суперточным именем, не требующим разъяснений. Она же его и упрекала, изолгавшись на корню: «Та меня принимаешь за другую», и первые измены шли за счет мужского напора, которому противостоять было не в ее девичьих силах: «Я не знаю слова «нет», я на все согласная, ведь и с тобой так было…». Хотя как раз с ним было по-другому, когда она перехватила инициативу, убыстряя процесс, который грозил превратиться в бесконечность из-за его осторожности и упоения преамбулами и нюансами, ей чуждыми из-за ее нетерпения. А потом, войдя во вкус секса на стороне, она и врать перестала, такой у них был теперь уговор, и на том спасибо, ложь он ненавидел больше измен – и понеслось. И то правда, что, признавая за собой эту сексуальную безудержность и ненасытность, обещалась сходить к сексологу или психоаналитику, да еще оправдывалась: «Было бы хуже, согласись, будь я алкоголичкой или наркоманкой».
Что делать, Иван соглашался делить свою Галатею с другими – а что ему оставалось? – как бы одалживая ее временно напрокат, паче она возвращалась к нему после недолгих – пара-тройка случек на стороне, а иногда и не дожидаясь их окончаний. Не то чтобы не брезглив, но не эгоистичен, лишен собственнических инстинктов: почему в самом деле не поделиться сокровищем, которым владеешь? Может, это Ивана даже возбуждало, подтверждая его любовный выбор? Где-то в самом начале их романа он даже если не мечтал, то представлял не без кайфа и смака, что его любимую пользуют его друзья и знакомые, так она была хороша в деле, но обязательно в его присутствии – вот и домечтался, извращенец клятый.
Как там у античного порнографа – или поэта-сладострастника – Овидия в его советах женщинам:
«Все ваше остается при вас. Пусть им пользуются тысячи, его все равно нисколько не убудет… Что ты потеряешь, кроме того, что тебе придется подмыться?»
Ну да, не окунать же свой пенис в чужую сперму. Что лично автору и вовсе чуждо с моим представлением о любимой вагине, как о священном источнике любви. Греки с римлянами те вообще не знали, что такое любовь, но только страсть, а по сути, любострастие, то бишь похоть, не различая одно от другого.
А в чем разница?
Касаемо же ревности, есть два типа: подтвержденная убивает любовь, как и случилось с Иваном или как ему казалось до определенного момента, когда его Галатея не то чтобы обабилась, но утратила свой девичий образ, тогда как на уровне сомнений и гипотез, пусть воображаемых, хотя кто знает, все равно мучительных, еще сильнее разжигает любовное пламя. Мне ли не знать? Мой случай!
Не обо мне, однако, речь. Мой герой, смирившись вроде с изменами, как с неизбежностью, рассуждал иначе. Грех жаловаться – ведь ему тоже перепадало от ее нимфомании – в постели и повсюду, где они этим занимались, а хотение настигало ее где попадя, она была супер, тем более по контрасту с тем сдвоенным литературным образом, который он взлелеял, влюбившись с первого взгляда в эту латентную нимфоманку.
Как-то, разоткровенничавшись, она рассказала, как сызмала неистово мастурбировала. «Пальцем?» спросил ее бывший учитель литературы. «Всей рукой!» Чем объясняла отсутствие каких-либо помех при их первом соитии: «Сама себя дефлорировала», хвастала она. И он смеялся вместе с ней, возбуждаясь от ее тогдашней невинной распущенности. Хотя прежде думал, что это он сам лишил ее девственной плевы, осторожно орудуя там своими пальцами, чтобы, не дай бог, не сделать бо-бо и не вспугнуть ее. Опять-таки клятая литература, таков герой – ни шагу без нее. К пенисуальным отношениям они перешли не сразу – это он оттягивал, а она проявляла нетерпение и в конце концов втянула его в себя чуть не силой. Силой? Чтобы он очень сопротивлялся? Не скажу.
Что-то, конечно, добавляло в их отношения, что она досталась ему девочкой, как и положено помянутым литературным героиням. Ее девичество было для него важнее, чем ее последующий адюльтер, который превратился в какое-то подобие игры между супругами. Был ли Иван мазохистом? Разве в том дело, в любых отношениях садо-мазо имеет место быть? А главным было, что Иван, старше жены на семь лет, все еще видел ее за партой, как увидел впервые, когда начал преподавать им литературу, а потом решился и назначал ей свидания, на которые она всегда запаздывала, а однажды он прождал зря, чему с ее стороны были веские причины, а может это была у нее такая бессознательная тактика, какая разница! Где-то на заднем плане мелькал некий ее одноклассник имярек, с которым она сидела за одной партой, но смутно, неопределенно, он даже не узнал его, когда тот, материализовавшись, воплотился в реальность и заявился к ним в гости на третий или четвертый год их семейной жизни, когда Иван уже стерпелся – смирился с ее перепихами на стороне, но был несказанно удивлен, когда жена, представляя гостя, проговорилась:
– Мой первый бойфренд.
Или не проговорилась, а следуя заведенному в их семейной жизни порядку честности в этих делах.
– Почему вы расстались? – спросил неревнивый муж, впервые испытав укол ревности, но утешаясь причиной и заранее гордясь, что выиграл соревнование с ее ровесником. Хоть какой-то позитив для баланса.
– Ты у него спроси, почему он меня тогда кинул. Чуть с собой не покончила. Ты как раз вовремя подоспел. Хоть какое утешеньице.
Наповал.
Шоковые сюрпризы для бедного Ивана: что досталась ему не девочкой, что у него был предшественник, что тот сам ее бросил, а не так, что она предпочла учителя однокашнику.
– А как же твоя самодефлорация? – не удержался Иван, когда они остались одни.
– Ну, рукоблудить я начала, как себя помню, – нашлась Галатея.
– ???
– В смысле, физически я уже не была целкой, когда у нас ним началось.
Слишком много вариантов – и ни один из них не соответствовал его прежним представлениям о тургеневской барышне, которая звалась Татьяной. Единственно, в чем она совпадала с Лариной, так это в имени. Однако продолжим называть ее Галатеей, чтобы не запутать читателя.
Со слов Ивана, если ему верить, он взревновал к генитальному первопроходцу, который физическим им, может, и не был, еще до того, как заподозрил, что они возобновили прерванные отношения. Впервые его Галатея перестала с ним откровенничать, как о своих одно-двух-трехразовых случках, к которым относилась легко – «Перепихнулась – и всех делов», но то, что она враз стала молчаливой, Ивана и смущало. Супружеский секс у них продолжался, но та одухотворенность в ее лице, когда они этим занимались, исчезла, а ее-то Иван и ценил больше всего, умиляясь и кайфуя.
Одноклассник тем временем зачастил в ним в гости, что как раз и было подозрительно и никак не исключало их встреч наедине – наоборот. Вот что Ивана не устраивало – сам этот любовный треугольник. Скорее даже четырехугольник, ребенок, увы, в этом тоже участвовал.
В конце концов, не унижаясь до личной слежки, Иван унизился еще больше, наняв детектива: сомнения подтвердились фотографически. А что дальше? Любовники не подозревали, что разоблачены, одноклассник, как ни в чем небывало, продолжал наносить им визиты и втерся в доверие, подружившись с их дочкой, хотя может и искренне. Ксюша души в нем не чаяла, что было последней каплей по словам Ивана, чему я верил и не верил, ища причины на глубине. Иван, однако, настаивал, что готов был потерять жену, которая перестала быть девочкой и утратив одухотворенность во время секса с ним, но не похожую на нее реальную девочку – дочурку-трехлетку.
Хоть и старше своей жены, но в интимных представлениях наивняк. Дело, впрочем, не в индивидуальных свойствах, а в гендерных. Мой домашний философ Монтень (два других, самоочевидно, Платон и Фрейд) полагал девочку-подростка, включая собственную малолетнюю дочь, сексуально опытнее любого кобеля – селадона. Из Ивановых со мной откровений о пост-матримониальной потере его женой девичества запомнил его ламентации о постельных позах Галатеи. Если прежде она раздвигала ноги, потом колени, то в конце концов набралась опыта на стороне и стала закидывать ноги ему на плечи, а то и к потолку. Взамен девичьего в ней появилось что-то профессионально-проституточье, что Ивана смущало, но одновременно и возбуждало. Он бы так и продолжал мучиться-кайфовать, открывая в Галатее все новые и новые плотские, сексушные черты, если бы не появление на горизонте, а точнее в их жизни ее бойфренда.
Однажды он не выдержал и, нарушив семейную идиллию, выложил одноклассникам, что все про них знает. Что на него тогда нашло, когда он так терпимо относился к прежним перепихам Галатеи? Или количество перешло в качество? Это уже вопросы автора, на которые у меня нет однозначного ответа. Правда, спустя я вспомнил, как поразило Ивана, с его опять-таки слов, неуверенное объяснение самой Галатеи, пока ее бойфренд деликатно (или растерянно?) помалкивал:
– А если это та самая первая любовь, которая никогда не кончается? Больше я никого в своей жизни не любила и не полюблю. А в него втюрилась с седьмого класса. Вот и израсходовалась вся на первую любовь. Ничего не осталось за душой.
Сильному ее возвратному чувству могло способствовать и то унижение, которое она испытала, когда однокашник поматросил и бросил. Возобновление отношений было своего рода реваншем для молодой женщины. Инициатором была скорее всего она. Как, вероятно, и в том школьном романе. Как – это уж точно – в ее отношениях с будущим мужем. А может и в коротких е*алках на стороне? Хотя прежде Иван со свойственной влюбленным идеализацией объекта любви опять-таки заблуждался, полагая свою жену неотразимой и что ее одноразовые, как гандон, любовники положили на нее глаз, а не она на них. Почему они так быстро ее бросали, а не она их? задумался, наконец, Иван. И последнее мое авторское предположение, хоть я и сую нос не в свое дело: а если и рецидивный этот роман одноклассников был уже на исходе и Галатее не удалось бы и на этот раз удержать своего бойфренда?
Снова сослагательное наклонение, тогда как в довольно банальный семейный конфликт, который на крайняк мог бы ограничиться мордобоем, вмешалась судьба. Ананке, подсказывает мне моя соседка Лена Клепикова, классицистка по университетскому диплому, что в переводе с греческого и значит предопределение, рок, судьба. Вот именно эта ананке и изменила круто сам жанр этой истории – из мелодрамы в трагедию.
– У нас в Харькове уже тогда случались шпанистые разборки на национальной почве. Скорее на языковой, – добавил он.
Здесь кстати будет пояснить уж не знаю для какой надобы, что Иван полукровка, да еще с припи*дью, которая, однако, и помогла ему сделать ноги по израильской визе к нам в Америку, Галатея – русская, бойфренд – украинец.
Встречались ли одноклассники после той семейной бучи, Иван не знал, так он по крайней мере сам говорил – не нанимать же снова детектива. На что он надеялся? Что устаканится: Галатея погорюет немного и подзабудет свою первую любовь, тем более, у нее был опыт – не первый раз быть им брошенной. Иван ей все простил и воспылал прежней любовью, на этот раз вперемежку с жалостью, а благодарная Галатея, в свою очередь, прекратила левые сношения: «Перебесилась», сама сказала. Даже вспомнила о своих материнских обязанностях, да и Ивану не до ревности, как он утверждал: он уже был в аспирантуре в харьковском универе и работал над диссертацией в духе времени – «Украинские истоки русской литературы – от Гоголя до Бабеля».
Семейное это перемирие было прервано внезапным появлением того самого дотошного полицейского, которого не устраивала бытовуха как причина их домашней свары, а та кончилась легким сотрясение мозга у Иванова не просто синхронного соперника, а сексуального предтечи, почему Иван и сосредоточил на нем свои ревнивые чувства. Полицейский вломился в их жизнь без всякого предупреждения и с ходу сообщил об убийстве Таниного бойфренда, наблюдая за последовавшей реакцией.
– Это ты его убил! – закричала Таня и бросилась на мужа с кулаками, а потом еще долго билась в истерике. Прямое доказательство – нет, не вины Ивана, а любви Галатеи, которая никуда не исчезла и не подзабыта, как надеялся ее муж. Впрочем, в силе первой любви Иван убедился на собственном опыте, забегая вперед. А тогда и другие надежды Ивана рассыпались в прах. Хоть улик против него вроде никаких, но отнести гибель молодого человека за счет обострения криминогенной ситуации в Харькове и разборки двух мафиозных структур, русской и украинской (официальная версия), полицейский отказался.
Началось расследование, кольцо вокруг Ивана сжималось, хорошо хоть Иван был не единственным подозреваемым, но еще и один отморозок из русской малины, и расписку о невыезде за пределы родного города (и отечества) с Ивана не взяли. Оплошность, которой он и воспользовался. Вот тут и пригодилась жидовская осьмушка Ивана, которую он не то, что скрывал, но не афишировал – его родная прабабка, которую он уже не застал, погибла именно как еврейка, когда Харьков заняли немцы. Ксюшу в охапку – и он отбыл на историческую родину, до которой не доехал, улетев из Вены в Нью-Йорк, где мы с ним и сошлись, несмотря на разницу в возрасте.
Нью-Йорк: Возвращенец
Не только разница в возрасте, но и принадлежность к разным поколениям, а значит – к разным поколенческим культурам. Как раз что из разных мест широка страна моя родная не смущало. Харьков входил в зону русской культуры, из него родом были мои старшие друзья-кумиры, единственные, кого я звал по имени-отчеству – Борис Абрамович Слуцкий и Анатолий Васильевич Эфрос. Не стану здесь подробно пересказывать довлатовскую географо-шовинистическую теорию, что писательские таланты в России с севера ограничены нашим с ним Ленинградом (покуда я не переехал в Москву перед окончательным отвалом с родины), а с Юга – Харьковом, откуда наши однопоколенники Эдичка Лимонов, Юра Милославский и Вагрич Бахчанян – даже Одесса пролетает, как фанера над Парижем. Я упомянул все эти имена при первом знакомстве с Иваном – к большинству он остался равнодушен, Слуцкому противопоставил Чичибанина и гневно отозвался о Лимонове. Нет, не за его национал-большевизм, а за высказывания о самостийной Украине, на которые я не обратил внимание или подзабыл. Вот Иван и напомнил:
– Украинский язык он называет деревенским, пишет, что никто не хочет учить украинский в неукраинских школах, где его преподают по-русски. Только пижоны-интеллигенты на Крещатике демонстративно громко размолвляют по-украiнськи, а всю нашу литературу сводит к бесконечному нытью по поводу «крипацтва».
– Что такое крипацтво? – спосил я.
– Крепостное право.
– В смысле для московитов это в порядке вещей и национальная традиция, а для вольных украинцев внове? – И я вспомнил «Историю Государства Российского» моего любимого Алексея Константиновича Толстого – разговор энциклопедистов с Екатериной:
Хоть какое-то смешливое интермеццо в нашем чересчур серьезном разговоре, но в полукровке Иване вдруг проснулась его украинская половинка и, отсмеявшись, он сказал:
– Даже если уроки украинского языка по-русски, когда это было? Еще до распада империи зла. Но оказались правы киевские снобы-интеллигенты. Это они, а не бандеровцы возродили наш язык. Как раз мы, харьковчане, долго сопротивлялись. Отчасти по лени – учить презренный украинский. Если хочешь, та же история, что с ивритом.
Честно я устал от сравнений Украины с Израилем, типа «наша служба безопасности – это украинский Моссад» и прочее в том же духе, но будучи украинофилом, деликатно промолчал. Вот тут Иван и вспомнил главного украинского врага из русских писателей, и это имя всплывало в нашем дальнейшем трепе, а потому, супротив хронологии, я даю здесь суммарно возвраты к этому топику:
– Хуже всего твой Бродский. «На Независимость Украины» гаже, чем «Клеветникам России». В отличие от Пушкина, твоего Бродского никто не неволил. Его питерское имперство – не оправдание.
Камушек в мой огород – выходит, Иван не только слышал, но и читал моих «Трех евреях» и «Post mortem».
Помню, однажды я попытался разрядить обстановку, переведя разговор в шутку:
– Есть мнение, что этот анафемный стих – наоборотное, от противного, объяснение в любви Украине. Как и его стиховая диатриба бывшей возлюбленной – свидетельство, что та не дает ему покоя.
– От лукавого. Гнусь и есть гнусь.
– Я не защищаю Бродского, но все-таки не только питерское имперство – причина этого скорее хамского, чем гнусного, но эмоционально, согласись, сильного стиха. Один из немногих прорывов в его поздней, уже здесь, горизонтальной поэзии. Он мне сам жаловался, что стоячий период позади. А тут вдруг такая эрекция. Для этого должны быть не только явные причины, но подсознательные импульсы, может Бродским и не осознанные.
– Какие?
– Ну, еврейская обида на украинцев, например.
– С еврейской обидой понятно, есть за что. Сейчас бы такого стиха он не написал.
Этот разговор уже во время обеих полномасштабных войн – русско-украинской и израильской, когда студенты превратили наш кампус в пропалестинский кемпинг. Здесь у нас с Иваном разногласий не было. Я считал, что с антисемитизма всё и начинается, он как лакмусовая бумажка, а Иван вспомнил про канарейку – miner’s canary, которую ввиду ее чувствительности к газу специально держали в шахтах, если она переставала петь – знак надвигающей беды.
– Побоялся бы? – спросил я про Бродского.
– Не только. Еврейский импульс исчез. Потому как при нынешнем цунами антисемитизма во всем мире, Украина – единственная страна, где его нет.
– Еще Россия. Кремлевский пахан – юдофил поневоле. Он считает, что Гитлера сгубило юдоедство. Мировое еврейство и прочее.
– А Путина губит украинофобия, хоть он и блефует. Он наступает на нашей земле и проигрывает на своей собственной, где мы достаем его нашими дронами, уничтожая корабли, самолеты, нефтебазы.
С этим не поспоришь – текущие события доказывают нашу с Иваном правоту.
– Украинская авантюра ничтожит не только кремлевского пахана – так вот где таилась погибель моя, но и его крепостную страну-вотчину. Желая сгубить Украину, он уничтожает прежде всего Россию.
– Туда ей и дорога.
С этим я тоже спорить не стал, будучи не то чтобы детерминистом, но от судьбы не уйдешь. Хотя главную угрозу моей географической родине я видел и вижу не от Украины, НАТО или Америки, но от Китая. Во избежание повтора см. мои политиканы.
В чем мы оба были согласны, что в перспективе мировой пожар может уничтожить все человечество.
А возвращаясь к Бродскому, в противоположность еврейской обиде Иван выставил другой подсознательный импульс:
– Русская зависть к украинцам, что у них есть выбор, а у русских нет. – И без никаких объяснений, да они и не требуются. – Ноша империи. Как объяснение антисемитизма – зависть к евреям, так и объяснение русской украинофобии – зависть к нам украинцам.
– А у тебя, как полукровки не начнется раздвоение личности? – пошутил я.
– Не в этносе дело. Есть украинские русские и русские украинцы. Две большие разницы.
И вдруг ни с того, ни с сего:
– Ты гордишься дружбой с Бродским, а пришла пора стыдиться.
– Бродский не сводим к «На Независимость Украины», как Пушкин к «Стансам» и «Клеветникам России».
А тогда при первой встрече мы удачливо соскочили на харьковчанина Эфроса, с которым Иван оказался в дальней родне, хоть и седьмая вода на киселе – по той самой убитой немцами бабушке, благодаря которой он укатил из Украины, избежав суда-следствия. Об убийстве бойфренда сказал несколько загадочно:
– Из подозреваемых каждый мог оказаться убийцей.
– И ты? – полюбопытствовал, улыбаясь, я.
– И я. У меня были мотивы.
– Но не было улик, – скорее сказал, чем спросил я.
– Улик – нет. Но я последний, кто видел его живым.
Больше к этому сюжету мы не возвращались, он всплыл сам по себе через несколько лет и совсем в другой географической точке.
Хоть я и перескакиваю с пятого на десятое, но именно поэтому пора обозначить хронологические координаты. Иван прибыл в Америку незадолго до путинского крымского хапка, а отбыл обратно на третий год русско-украинской войны, когда рашисты стали продвигаться по Харьковщине и возникла угроза родному городу Ивана. Вот когда в нем проснулись национальные чувства – даже внешне: на последнюю нашу встречу он пришел в вышиванке. За эти десять лет много чего произошло не только у него на родине, но и в его личной жизни.
Господи, как давно это было – не в другой стране, а в другой жизни. Никакой ностальжи ни по малой родине – Харькову, ни по большой – самой Украине тем более, у него не наблюдалось. Как отрезанный ломоть – я не об Иване, а про обе его родины, которые он покинул навсегда, так ему казалось. В Америке Ивану свезло: защитил диссертацию, получил PhD и устроился в престижный универ, где я был Visiting Scholar и занимался исследовательской работой, фактически бил баклуши, зато Иван вкалывал по-настоящему. Преподавал сравнительную литературу – русскую с нерусской (Мадам Бовари – Анна Каренина, Дон Жуан – Евгений Онегин, Дон Кихот – Идиот). Плюс спецкурс «Монтень – Шекспир: влияние Опытов на Гамлета», на который я хаживал, хоть и не во всем соглашался с Иваном. Сам тому свидетель: успех у студентов – особенно у студенток. По профессорским стандартам, Иван был молод плюс хорош собой. Вот тогда он и увлекся Лейлой, исходя опять-таки из культурных аналогий – по ассоциации с героинями «Шахнаме», «Тысяче и одной ночи» и персидских миниатюр. Дежавю? Ну, не совсем. Оба брака – русский и американский – оказались неудачными и в конце концов распались, но все-таки по разными причинам.
Лейла и сама по себе, без никаких культурологических параллелей, была хороша собой, мельком встречал ее на кампусе, а тем более с учетом Ивановых педофильских склонностей – юная соблазнительная персиянка и, слава богу, не нимфоманка – инициатива исходила от профессора, а студентка делила его пламень поневоле. Нет, не фригидка, но полная противоположность Галатее по темпераменту. К тому же, оказалась девицей в физическом смысле. Отчасти это объяснялось ее лесбиянскими склонностями, о чем Иван стал догадываться не сразу и которые сыграли, может, даже бóльшую роль, чем ее мусульманское происхождение, в ее идеологическом полевении, когда кампусы превратились в кемпинги. Именно ЛГБТ втянул ее в пропалестинские демонстрации, где она стала проводить больше времени, чем дома, пока и вовсе не переселилась в разбитый там палаточный городок, прихватив с собой семилетнюю уже Ксюшу.
Отношения между мачехой и падчерицей были скорее дружеские, чем семейные, чему Иван поначалу радовался, потом огорчался, но в конце концов и тут ему свезло: не тащить же юную американку обратно в Украину, когда он надумал свалить из Штатов на родину. Да и Ксюша наотрез бы отказалась с ним ехать, а он бы и не настаивал, тем более, отношения с мачехой у нее сложились более тесные, чем с отцом. В отличие от схожей истории с бойфрендом, на этот раз Иван не испытывал ревности, теряя дочь. Я не стал его огорчать, что встретил Лейлу и Ксюшу на кампусе – обе в палестинских платках. Я так понял, что это здешняя униформа. Обобщаю: в американских универах и колледжах.
Сразу же, следуя принципам моей лысой прозы супротив всесильного бога деталей, которые опускаю, о совокупных причинах возвращения Ивана в Украину.
Несомненно, и семейные неурядицы, в подробности вдаваться не буду по незнанию, зато в курсе его карьерных обстоятельств, которые пересекались с моими.
Недолго музыка играла – мы оба с Иваном оказались вскоре в универе не у дел. Мой сколаршип не продлили, как я надеялся, и я ушел на вольные хлеба, поддавшись в американскую журналистику. Поначалу это был копеечный заработок от случая к случаю, чтобы удержаться на плаву , пусть и в престижных изданиях от «Нью-Йорк таймс» и «Уолл-стрит джорнал» до «Лос-Анжелес таймс» и «Чикаго трибюн», однажды оказался среди трех финалистов на Пулитцера, но благодаря открытому нами с Леной Клепиковой жанру художественных политикан – ну, типа занимательной политологии – и двум удачным политическим прогнозам, статьи наши стал распространять крупный газетный синдикат, а потом нам повезло на книжный договор, книги стали выходить на дюжине языков и проч. – вплоть до нынешних времен благодаря моей проукраинской артикуляции в пабликах мои актуальные книги одна за другой были изданы даже в Киеве. Ну да, на вечную злобу дня, ибо, само собой, российское имперство не вчера родилось и не завтра умрет. Можно и так сказать, что нынешнее скорее раша-, чем русофобство пошло мне, как писателю и журналисту, впрок.
У Ивана все сложилось куда более драматично, хотя он продержался в униере чуток дольше, а когда интерес к его литературным парам и Монтеню с Шекспиром угас, он перешел на русский язык, которому учил детей русскоязыких эмигре, а те брали его курс единственно чтобы легче было набрать необходимые кредиты. Далее, однако, вмешался еще один форс-мажар, даже два – сначала ковид, а потом рашистская авантюра в Украине. Русский язык вышел из моды (эвфемизм), Иван сориентировался и перешел на преподавание украинского, надев помянутую вышиванку. Шутка. Однако договор с ним все равно не продлили, а тенюра у него не было. Одно время он подрабатывал частными уроками – русского и украинского, жил соломенным бобылем, Лейлу не видел вовсе, а Ксюшу редко. Из друзей у него был один я, вот он и заскучал.
Можно и так сказать, пусть упрощение: антисемитизм на кампусах пробудил в нем размытое жидовство (пользуюсь украинской дефиницией, а не русской уничижительной кликухой), а харьковское наступление рашистов – его украинский патриотизм. Да и семейные обстоятельства усложнились. Имею в виду не Лейлу, а Таню-Галатею, которая ненадолго выскочила замуж – ее новый муж оказался менее толерантным к ее сексуальным излишествам, чем Иван, она снова была свободна, вот тогда Иван мне и сказал, что никого больше, кроме нее, не любил и продолжает любить. Ну да, однолюб, как я. Между ними возобновилась переписка, и буквально за несколько дней до получения американского гражданства Иван отбыл на родину.
Да, свою роль сыграл подписанный Зеленским закон о мобилизации заключенных, когда десятки осужденных предпочли неволе службу в ВСУ, а Иван был под следствием и его арестовали сразу же по прибытии в Украину. Суд состоялся довольно скоро, Иван сознался в убийстве одноклассника своей жены, чье признание в продолжении отношений с бойфрендом смягчило приговор. Иван успел заново жениться на Галатее, пара-тройка недель молодоженов и военной подготовки – фактически, прямо из тюрьмы Иван отправился на харьковский фронт.
Дальнейшие сведения обрывочны. Официально: пропал без вести. А убит или взят в плен – попытаюсь выяснить у моих украинских друзей. Но это уже за пределами моего сюжета.
Одно слово: ананке.

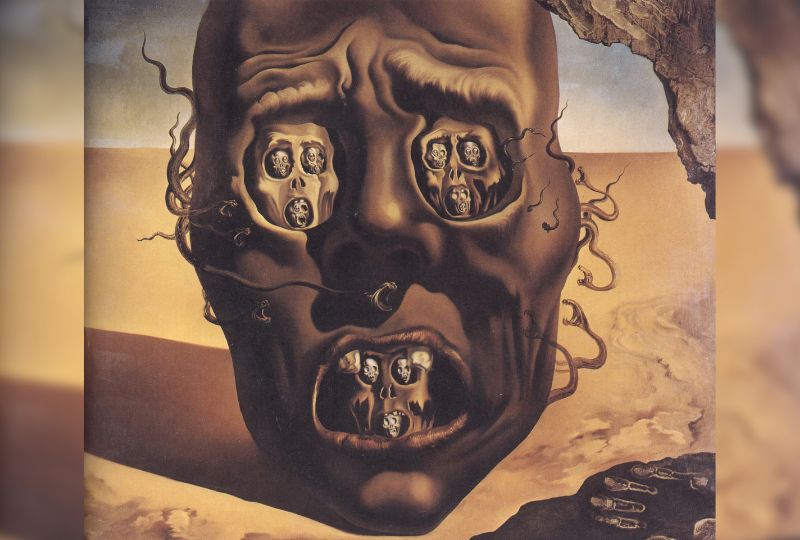
Комментариев нет:
Отправить комментарий