Владимир Соловьев – Американский | Квадратура круга
Четыре пролога с эпилогом
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
Photo copyright: pixabay.com
Просьба к читателю – не искать прототипов этой истории, потому хотя бы, что даже рассказчик – лицо вымышленное, а не Владимир Соловьев-Американский. Ну, например, в отличие от меня он – холостяк, хоть и однолюб, как я. В смысле, что парой-тройкой деталей из моего Curriculum Vitae я с ним поделился. Да и сам сюжет – плод разнузданного писательского воображения. Пусть и отталкиваясь от реальной истории, но в камуфляже – в художественно искаженном изложении.
И еще.
Помимо вынужденной преамбулы, у этого сказа несколько альтернативных начал и вместо того, чтобы выбрать самому, Автор предоставляет это право читателю, если только тот не согласен на одновременное суще- и сосуществование всех прологов с эпилогом, ибо векторная динамика сюжета протекает сквозь эти начала от начала до конца. То есть в его читательском праве читать эти отсеки в любом порядке, хоть с конца в начало, дабы разобраться в истории, которая озадачила Автора, и он/Я попытается докопаться до ее подоплеки, что и читателю рекомендую. Хотя где гарантия, что у нас получится? А вдруг на месте разгадки окажется новая загадка? Ладно бы загадка, а если тайна? Вместо развязки новая завязка?
Изначальное начало: наперекор Прусту
Начать с того, что в этой истории я – лишний. Не лишний человек из тургеневского «Дневника лишнего человека», да хоть совместно с его великими предтечами, поименованными по двум северным русским рекам, а лишний-излишний с боку припека персонаж, а посему не внял совету одного гея другому гею: Вы можете рассказывать всё, но при условии никогда не говорить: “Я”, писал Марсель Пруст Андре Жиду. То бишь, не от первого лица, токмо в третьем лице.
С чем я принципиально не согласен ввиду протеевой многоликости Я в прозе: сам автор, его альтер или альтра эго, авторский персонаж, вуайор, соглядатай, кибицер без права голоса, а то и вовсе сторонний либо даже противоположный автору персонаж. В любом случае, автор может сделать автора неузнаваемым – холостяк вместо женатика, завистник в противоположность альтруисту, каким я сам себя себе представляю, вот и Довлатов мне говорил, что я единственный из друзей радуюсь его публикациям в «Нью-Йоркере», да хоть баба взамен мужика либо поэт заместо прозаика. Или это уже слишком? Да мало ли? Хотя полностью развоплотиться мне, вряд ли, удастся, да и к чему?
Наконец, storyteller – рассказчик, сказитель, сказочник, выдумщик, который равен и одновременно не равен автору, будучи в сюжете маргиналом и принимая в нем участие на птичьих правах – до поры до времени, да? Стану ли я героем повествования о своей собственной жизни или это место займет кто-нибудь другой, должны показать последующие страницы – помните, конечно, первое предложение лучшего романа лучшего британского романиста. Самый яркий пример рассказчика – рассказчица Шахразада, которая получила рекордный авторский гонорар за свои ночные сказы мужу, любителю прижизненных гурий, арабскому Синей Бороде, потому как девушку можно получить один только раз: жизнь в обмен на сказки. И то сказать – никакой сублимации, у них хватало времени и на секс, коли султанша Шахразада за тысячу и одну ночь родила трех сыновей. Сказка жизни сказительницы, хоть и осталась на сюжетной обочине, кратно интересней рассказанных ею сказок.
А к чему привела гендерная подмена подпольного ураниста Пруста? Уши торчат, когда он, например, брезгливо называет женские груди отростками, а соски ниппелями – рудименты вроде аппендикса. Я уж не говорю о сюжетных и психологических перекосах и натяжках: чуть ли не все герои его гениальной семилогии содомиты и гоморриты, голубые и розовые, и один только авторский персонажи, единожды названный Марселем, ходит в этом вертепе белый и пушистый. А какой суперный был бы роман «Под сенью юношей в цвету» взамен «девушек», согласитесь. С другой стороны, открытый гомосек Трумен Капоте, желая превзойти Пруста, назвал в «Услышанных молитвах» вещи и людей своими именами, обрушив свою литературную карьеру, а может и жизнь, кто знает.
Ах, что говорить.
Да, по сию пору и на расстоянии: ретроспективная ревность на порядок сильнее синхронной. У меня не цепкая, а патологическая память – я помню, что было и чего не было. Последнее и пробуждает мое либидо, пусть я е*у собственную память, как сказала мне с обидой одна юница. Усладить мои страданья Мнемозина притекла? А если Мнемозина и есть моя Муза? Тем более они связаны родством: мамаша всех девяти от Зевса. Ишь, чего захотел! Я о себе.
Тут один добрый мой приятель посвятил стишок престарелому писателю, в котором я легко узнал самого себя:
Лебединые песни одна за другой.
Если мысли мои управляют строкой,
Я пишу. А кому не по нраву,
Тем Сальери находит забаву.
– Ну уж престарелый! – не обиделся я, отвечая ему в виртуальном пространстве. – Зачем преувеличивать? Жив курилка в самом соку, тьфу-тьфу, не сглазить. Человеку столько не на сколько он выглядит, а на сколько себя чувствует. Борода тебя молодит, сказал мне покойник, когда еще был живым – о нем и пойдет далее речь. Точно также молодят опасности, риски, пагубы, сальери – мн. число. Это у Моцарта один, на то он и гений, а я не гений – у меня избыточно. Касаемо пагуб, то даже когда я в качестве подсадной утки. В других качествах – тож.
– Какая, к черту, мания преследования! – Доктор пациенту. – Вас в самом деле преследуют.
– Кто бы сомневался! А охрана на что?
– Охрана не может уследить за каждым вашим шагом, коли вы так прытки именно в этом направлении. И они это знают, подбрасывая вам самочек. На ловца и зверь бежит. Ищите приключений себе на голову.
– Это приключения ищут меня. Мне нужны не бабы, а сюжеты.
Потому и отказался от этой самочки на лесной тропе, что клише. Место действия опускаю, то же, что и других моих историй – Длинный остров. И место то же самое, где год назад я повстречал предыдущую тварь. Хоть эта девочка хоть куда – в лесу в одном купальнике типа того. Лет двадцать плюс минус. В моем возрасте соблазнителен сам по себе возраст: адреналин, пассионарность, либидо. Одним словом, эрекция. Вопрос вопросов, наподобие гамлетова: враг или друг? Поди разбери. Пойдем, говорит, дальше вместе, вдвоем веселей и спокойней. Сиречь безопаснее.
А что, правдоподобно. У моей охраны последнее время сменилась тактика. Раньше они охраняли меня анонимно, а теперь норовят в чем-то быть полезными, помочь – с установкой новой палатки, например, когда я вчитывался в инструкции, мысленно переводя с английского на русский и пытаясь понять, что к чему. Подбежали две военизированные девушки, физически, взяв за руки, меня отстранили и установили палатку в мгновение ока. Может и эта девица мне в помощь? Странно только, когда мы стояли рядом и она химичила в своем телефоне, в моем вдруг раздались не то что звоночки, а какие-то тревожные гудки. Не обращаю внимание, потому как с техникой не в ладах.
– Глянь, что у тебя в телефоне.
Глянул – голосовой и текстовой сигнал: «No Internet Connection!»
– Видишь. Ты беззащитен!
Предупреждение или угроза? Я встал и по-англицки, не прощаясь, пошел прочь, куда глаза глядят. И заблудился, хотя знаю этот лес, как Москву или Нью-Йорк. Устал, как черт. Вышел на залитую солнцем полянку, посреди дом стоит, из него выходит моложавая, но не молодая, выпавшая уже из обоймы, но миловидная все еще женщина и говорит:
– Повернись, откуда пришел.
В самом деле, дощечка с указателем в противоположном направлении «Trail». То есть я вышел за пределы лесопарка и угодил в частную собственность. Извинился за вторжение.
– Не ты первый. Хочешь кофе?
Двусмысленное предложение. Мой покойный друг, на которого я уже анонимно ссылался и который вот-вот появится из-за кулис в полный свой рост под два метра, полагал, что если американка предлагает кофе, это приглашение к танцу. Между прочим, большинство его многочисленных на стороне связей из боязни, что от него этого ждут, и он может показаться слабаком, а потому брал мужским напором, одну даже изнасиловал, решив, что та сопротивляется из кокетства то ли застенчивости. Иначе, был скорее дамским угодником, чем бабником, либо для самоутверждения, чтобы попавлиниться (его словечко), да хоть излить семя все равно в какой сосуд, а не по примеру несчастного Онана, ни за что убитого Богом – жалко. Большой мужик, экзот среди нас низкорослых эмигре, к тому ж красив, остроумен, талантлив, голос такой бархатный, обволакивающий, бабы к нему так и льнули, а опосля разочарованно ничтожили отзывом, мстя незнамо за что: «Ничего особенного». Вот он и состоял сплошь из комплексов, боясь лохануться, о чем впереди. Даже в изнурительную ньюйоркжскую жару ходил в длинных штанах из-за того, что первая жена ему как-то сказала, что у него кривоватые ноги.
– Воды, – ответил я, входя вслед хозяйке в ее дом.
– Вина?
– Новичок?
– Novichok? – не оценила она мою шутку по крутому невежеству в наших русских делах и делишках.
– Это новый сорт русского вина, – выкрутился я.
– Хорошее?
– На любителя. От него еще никто не умирал.
Я выпил одним глотком стакан местного вина фирмы Pindar, чьи указатели мелькали на лонгайлендовских большаках, хотя уместнее было бы Archilochus, от которого сохранились только фрагменты, из них самый знаменитый Пью, опершись на копье, и спьяну быстро нашел дорогу в кемпинг.
Начало второе. Казус Тиресия, или Сфинкс без загадки
Не ждет ли меня судьба единственного, если не считать гермафродитов и до появления трансгендеров, двуполого существа Тиресия, который ударил посохом спаривающихся змей и убил самку, за что мгновенно был превращен богами в женщину? И только спустя семь лет он снова увидел сплетшихся змей и, убив самца, возвратил себе маскулинный образ.
Нет, змей я не трогал, наоборот – был однажды, когда плавал в ньюгемширском понде, ужален змеей в ногу, приняв за судорогу, но температура, хромота, сыпь по всему телу, водянка и проч. Ядовитых змей у нас в Новой Англии не водится, но эта переродилась из неядовитой в ядовитую – вот мне и подфартило на встречу с ней единственной. Зато все на том же Лонг-Айленде наехал в этот раз на низко над землей порхающих в свадебном танце шикарных бабочек – мы их зовем черными махаонами по сходству рисунка и шпорам с белыми махаонами, но противоположного окраса. Eastern Black Swallowtail по здешнему, то бишь Черный Ласточкин Хвост по аналогии, но я предпочитаю имена древнегреческих героев – Махаона и Подалирия, сыновей д-ра Асклепия. Я притормозил и увидел в зеркалку заднего вида одну только бабочку, безутешно летающую над телом любовного партнера. Кого я сбил ветровым стеклом – самца или самочку? И без того женские гены во мне наличествуют избыточно – достаточно глянуть на мои, как у князя Андрея Болконского, маленькие ступни и кисти. Благодаря своей субтильности имел успех у мужелюбов больше, чем у баб, чем не попользовался, будучи отъявленным женолюбом.
И что бы не подозревал сам Илья. С каждым разом он восстанавливался все медленнее и труднее и всякий раз, выйдя из запоя, приходил к нам с неимоверным, под стать его собственным физическим параметрам, букетом и уводил беглянку с пацаненком домой. В последний раз, когда она пробыла у меня больше недели, он устроил мне допрос с пристрастием, пытая о наших с ней отношениях. Его аргумент показался мне странным:
– Будь на твоем месте, воспользовался бы. Мне всегда казалось, что ты к моей не ровно дышишь.
– Даже если так. Табу. Жена друга – как сестра. Типа инцеста.
– На то и табу, чтобы его нарушать. Сношения брата с сестрой – общее место. Тем более, у моей такого табу нет. А женщины аморальны на физиологическом уровне.
– Не тебе говорить, – промолчал я.
– Трудно отказать женщине и не утешить ее, – подначивал он меня задним числом. – А кроме секса, никакого утешения для них не существует. Вы что расходились вечером по своим комнатам и занимались мастурбацией? И дрочили друг под друга?
Так и было, когда она пришла ко мне с бэби в первый раз. Что мне оставалось?
Я молчал.
– Ладно, гипотетический вопрос, коли не хочешь отвечать на прямой. Если бы промеж вас что было, ты бы сказал? – поставив меня в тупик.
– На гипотетический вопрос гипотетический ответ, – сказал я, выдержав паузу. – Нет, не сказал бы.
– Ложь во спасение?
– Ложь для меня хуже убийства. Вослед моему домашнему учителю Монтеню.
– Честь женщины, ха-ха?
– Ближе. А точнее это же не мой секрет, а наш. Был бы. Почему ты спрашиваешь меня, а нее ее?
– Ее я уже спрашивал. До скандала дошло. Как обычно. У нас что ни скажи, скандал. До потасовки доходит.
– Вы в разных весовых категориях, – не удержался я. – И что она сказала, если не военная тайна?
– То же самое, что ты. И добавила: чтобы не причинить мне боль и чтобы не подвести тебя. И чтобы избежать дуэли между нами. Ну, мордобоя. Хотя мне кажется, женщине льстит, когда ее ревнуют, а когда из-за нее конфликт меж мужиков – паче. Моей – определенно. Хотя бы из мести. Чтобы взять реванш за мои измены.
А касаемо Тиресия, то именно к этому его двойному гендерному опыту прибегли олимпийцы, когда у Зевса с его сестрой-женой (да, инцест!) зашел спор, кто больше получает удовольствия от траха – мужик или баба? Чтó люди, когда богам невдомек, хотя первое соитие у брата с сестрой длилось…
– Сколько ты думаешь? – спросил я Илью, героя моего рассказа, где сам я говно приблудное, пересказывая ему эту поучительную историю.
– Быстро, думаю, кончили. Первый же раз. Столько ждали, пока решились. Преждевременная эякуляция, как в твоем рассказе.
Рассказ так и назывался, а Илья, ходок еще тот, не придавая большого значения постельным упражнения без божества без вдохновения – попрыгали в постели, его выражение – был, однако, против откровенностей в моей сексуальной прозе. Сам он в своих стихах и песнях придерживался ханжеского устава русской классики.
– Не поверишь! Триста лет!
– Не поверю. Мифы – те же сказки.
– Так думали и про Илиаду, пока Шлиман не раскопал Гиссарлык, – обиделся я за греческие мифы, воспринимая их, как истину в последней инстанции.
Греками я увлечен с детства, а Илья tabula rasa в античной мифологии был благодарным слушателем, зато наизусть шпарил Калевалу в оригинале – его коронный номер, утверждая, что знает ее всю наизусть, как Модильяни «Комедию», в чем мы сильно сомневались, но проверить было некому. Кроме него, в нашем окружении никто не знал финского, тогда как Илья был на редкость хорошо осведомлен в истории Суоми и даже живал в Хельсинки по студенческому обмену и хвастал мужскими победами среди фригидных финнок, коих не могли, по его словам, удовлетворить соплеменники, которые отправлялись за любовными утехами в Таиланд, Бирму и Камбоджу, откуда даже вывозили жен, а те иногда оказывались трансгендерками, вот незадача! Или тем лучше? Не спец.
В истории же с бедным Тиресием нас обоих удивляла реакция Геры, и мы искали ей объяснения.
А дело было так, если кто подзабыл. Почему-то каждый из супругов-олимпийцев полагал, что именно противоположная сторона больше кайфует от секса, и Гера вроде бы ссылалась на то, что инициатором всегда выступает мужик, а баба вынужденно ему уступает. Ну, типа нашего Я его пожалела. «Ты себя пожалела!» – будто бы сказал ей в сердцах Зевс. Ну само собой, я перевожу их высокий божественный треп в нашу разговорную феню. В самом деле, кто кому предложил кусить полученное от Змея Горыныча яблоко с древа познания? Яблоко как далекий прообраз виагры? Или тех же греков взять: вряд ли Зевс похитил бы Европу, если бы она с ним не флиртовала, ласкала, оседлала его верхом. А ему уж ничего не оставалось, как умчать ее в океан-море. Тем же манером Лада соблазнила Лебедя. Хайли-лайкли. Пусть тогдашние феминистки и трактовали это как насилие. С чьей стороны, я спрашиваю. Кстати, rape – похищение или насилие? А как по-гречески?
Короче, Тиресий и рассудил олимпийцев, исходя из эмпирических данных, то бишь опираясь на собственный двойной опыт. Дословно:
– Если исчислять общее наслаждение десятью долями, то мужчина получает одну долю, а женщина – девять, – процитировал я слова Тиресия.
– Ты со свечой стоял? – съязвил Илья.
– Цитирую первоисточники – Гесиода, Гомера, Овидия и прочих греков.
– Их там тоже не стояло.
– По любому, Тиресий был наказан разгневанной Гéрой, зато поощрен благодарным Зевсом. Гера его ослепила, а Зевс дал ему внутреннее зрение: третий глаз изнутри взамен двух извне. Он не только понимал язык птиц и зверей и читал тайные мысли людей, но и прорицал будущее, чем и прославился в древнем мире. См. фиванский цикл с центровой фигурой царя Эдипа. Какой ни есть, а эквилибриум.
– Не сказал бы, – возразил матерьялист Илья виртуалисту Вове.
– Ну, например, ты сомневаешься в верности подруги, – ввернул я облюбованный топик ревности. – А так узнаёшь наверняка.
– Что узнаёшь? Что она тебе верна или что не верна?
– Все равно что. Правду! Незнание шизит больше всего.
– А зачем мне правда? Ты хочешь лишить женщину тайны?
– … может статься, никакой от века загадки нет и не было у ней. Не у природы, как в стишке, а у бабы. Баба – сфинкс без загадки.
Не уверен, что Илья знал о гендере Сфинкса.
– Это изнутри, а извне женщина для нас – самое загадочное существо на земле. Обман с мечтами пополам! – ответил он на Тютчева Заболоцким.
– Изолгавшись на корню, уж коли пошла такая пьянь со стихами, – без ссылки на Мандельштама.
– Это про меня. Четырежды был женат. Двух ты знаешь – первую и последнюю.
– Последнюю? Не зарекайся.
– Ну, нынешнюю, – несуеверно согласился Илья, знал бы, что так и окажется. – Здешнюю. Плюс две промежуточные – это еще там, когда ты уже отвалил, а я все не решался. Иногда по две одновременно, – хихикнул Илья, – не успевал развестись, как вступал в брачные отношения с новой и переезжал к ней, но наведывался и к прежней. Ну да, двоеженец гребанный, когда намыливался жениться наново при официальной жене.
И себе в оправдание:
– Что я хуйвейбин какой! Одно – случайная связь, однодневки не в счет, перепихнулись и разбежались. Но если трахаешься на постоянной основе – женись. А теперь представь – у каждой жены я был вторым, а так хотелось первым – чтобы распечатать бабу, – мечтательно сказал Илья.
– Мне тоже, – снова промолчал я. – Чтобы несверленная жемчужина и необъезженная кобылица, как метафорически сказано в помянутой книге.
А вслух сослался на стишок our mutual friend:
Я знал ее такой, а раньше – целой.
– Не привелось, – пригорюнился Илья.
– А мне? – опять молча.
– Второй – это в лучшем случае, – продолжал он талдычить. – Если верить на слово. Им соврать – как два пальца.
– Ложь – язык любви, не помню кто сказал.
– Ложь – язык женщины, это я говорю. Именно враньем закошмарила мне всю жизнь. До сих пор саднит.
Это он о первой, которую называл авантюрьеркой, вычитав это слово из гениальной повести Тургенева, которая так и называлась «Первая любовь», первый опыт латентного Эдипова комплекса в русской литературе.
– Не в оправдание, но на ложь их вынуждает многотысячелетнее бесправие, – сказал я, хоть и сомневался в сказанном.
– Не сейчас – после MeToo, когда возврат или рецидив матриархата. А они продолжают врать. В моем случае, могли и преуменьшить число предшественников. С них станет. Чужая душа – потемки. Тем паче бабья.
– А своя?
– Что своя?
– Своя душа – не потемки? – и процитировал вселенского учителя: большая часть того, что реально внутри нас, – не осознается, а что осознается – нереально.
По нисходящей вспомнил бородатый свадебный анекдот:
– И чтобы никаких измен в прошлом! – предупреждает жених.
– Лучше в прошлом, чем в будущем, – сказал Илья.
– Как сказать. Предшественники досаждают больше, чем соперники, пусть те и другие гипотетические, – опять молчу я, чтобы меня не повело на тему дефлорации.
Это уже мой идефикс. Я был первым, если верить моей далекой московской жене, которая давно уже не моя, выскочив замуж после моего отвала. А что мне остается? У моего любимого Джулиана Барнса лучший роман так и называется «До того, как ты встретила меня». Нет, до того, как она встретила меня, ничего быть не могло – мы познакомились детьми. Был, однако, некий промежуток, когда мы ненадолго потеряли друг друга, вот из-за этого промежутка я и сходил с ума, пока мы не расстались с ней навсегда. Молча. А с кем поделиться? Разве что с ней самой? Но если даже намеком либо гипотетически, она обижалась.
– Я так тебя люблю, что, конечно же, простил…– погоревал и простил.
– Ну да! А потом попрекал.
Проговорилась? Но не дав мне опомниться, возмущенно:
– Как ты можешь! Ты уничтожаешь наше прошлое.
Единственно, кому могу доверить мои сомнения – тексты. Вот этот, например.
В писательском отношении мы с Ильей – полная противоположность. Зато он, в отличие от меня, откровенен в разговорах, особенно, когда под градусом. Со мной, по крайней мере. Из него так и перло. Воистину, что у трезвого на уме… Чем не формула Фрейда на русский манер, если ум заменить на подсознанку? И никакая кушетка не нужна. Тем более гипноз.
Начало третье. Женщины из прошлого
Я люблю её до сих пор, очень люблю, но уже не хотел бы любить её.
Достоевский
Я ненавижу мою любовь.
Мариенгоф. Циники
При такой разноте, что нас с ним связывало? Безлюдье среди бывших соотичей. С друзьями он рассорился, а я ни с кем, кроме него, не сдружился. Бабы не в счет – какие из баб друзья? Как-то спросил его, с кем он дружит: «Вот с вами и дружу. С кем еще?» И мне больше не с кем. То ли дело у нас на родине. Но когда это было? Там сейчас пустыня еще пустынней, чем здесь.
Он был одинок в многолюдье. Худшее из одиночеств. По эмигрантским стандартам у него, как у барда, была большая аудитория, а после внезапной смерти – отчасти именно поэтому – его шлягеры пересекли океан и стали супер-пупер популярны в России, которая всегда была падка на авторскую песню ввиду коллективного самосознания – в противоположность личному. Дабы не растекаться по древу, сошлюсь на мою теорию числителя и знаменателя, где в числителе индивидуальное, единичное, субъективное, а в знаменателе – общее, массовое, родовое, этническое. Не говоря уже о том, что Илья стал фейсбучным кумиром, а это уже ниже некуда. Может и хорошо, что он не дожил до этой своей повальной славы в русском мире, центр которого повсюду, а поверхность нигде – без ссылки на Николая Кузанца, потому как его авторство оспаривается.
Вот о чем мы с ним спорили до хрипоты. Помимо вкусовых дискуссий, которые постепенно отошли на задний план: Пастернак или Мандельштам? Пушкин или Боратынский? Тютчев или Фет? Заболоцкий или Эренбург (ранние)? Высоко ценя его затаенную, сокровенную лирику, я с большим сомнением относился к песенно-есенинной продукции – не только его, но его особенно. Потому как даже лучшим из шлягеристов Окуджаве и Высоцкому гитара была по мерке, в адекват, не говоря о второсортниках Галиче-Киме, а тем более о таких банальщиках, как Городницкий, тексты которых без гитары гроша ломанного не стоят.
– Шлягерство во вред истинной поэзии, невосполнимые потери, катастрофический урон, – говорил я. – Зависимость от аудитории, потворство низковкусию, снижение критериев, словоблудие наконец. Помимо поэтов-песенников, еще и исполнители чужих стихов под музыку. Пугачева поет Мандельштама – конец света. Да он бы в гробу перевернулся.
– Как же, как же! Впереди планеты всей твой любимый вопиюще антимузыкальный Слуцкий, которого ты ставишь выше Бродского.
– Не передергивай! Не выше, а вровень. Хронологически первым, Бродский ему всем обязан, сам признавал. Настоящий народный поэт без никакого заискивания перед народом и потакания низменным вкусам, как Евтух. Если бы Бродский всеми правдами и неправдами не добился Нобельки, которая ему досталась по справедливости, то даже не был первым среди равных, пусть и среди первых – Ахмадулина, Вознесенский, Слуцкий, Самойлов, Евтушенко, Тарковский – и Бродский.
– Искусство для народа, а не для бомонда, как твой Слуцкий. Ты отрицаешь не только соборность, но и народность.
– Народность как масс-культуру – да. Отрицаю. Народом ты зовешь человейник, противопоказанный культуре. Коллективное, стереотипное, доступное в противоположность сложному и элитному. Поэзия – и антипоззия
– А как же романсы на великие стихи? Да еще в первоклассном исполнении. Ты же без ума от Обуховой.
– А сколько романсов возвеличили низкопробные стихи – того же Надсона взять. И свели к клише и стереотипу великие.
– От великих не убудет. У человека есть возможность – читать стихи или слушать песню, арию, романс. «Я помню чудное мгновение» – пустоватый стишок, но классный романс, согласись.
– Читателя решительно предпочитаю слушателю. Тогда уж лучше песни без слов, чем прилипчивая мелодия к слову. Если бы одной поэзии, а сколько вреда от шлягерства самой музыке! Знаешь, что Шнитке писал о шлягерности, полагая ее самым большим злом в искусстве, как стереотипизацию мыслей и чувств?
И я выборочно прочел с моего мобильника:
«Паралич индивидуальности, уподобление всех всем. Шлягер является и продуктом, и причиной всего этого. Естественно, что зло должно привлекать. Оно должно быть приятным, соблазнительным, принимать облик чего-то легко вползающего в душу, комфортабельного, приятного, во всяком случае – увлекающего. Это – зло сломанного добра. Зло, которое посылается как наваждение, как испытание».
– Шнитке нам не указ. Сами с усами.
И тогда я ему выдал аргумент-коронку:
– Ты же свои стихи не ложишь на музыку.
– Еще чего!
Что меня больше всего огорчало: лирических с философическим уклоном стихов у Ильи становилось все меньше, зато шлягеров – все больше и больше. Он становился профи-шансонье. На мою критику он ссылался на нашего общего любимца хулигана-шансона Сержа Генсбура.
– Да, но Серж вкладывался в свои шансоны весь без остатка. А ты, наоборот, вкладываешь в свои шлягеры остатки божьего дара, остатки самого себя.
– И живу душу, тож.
И переходя в наступление:
– А ты сам? Ты тоже многостаночник. С одной стороны, рассказы о заветном, а с другой стороны – актуальные политиканы на злобу дня.
– Я их пишу, как стихи, – возразил я, хотя прав был он. – Чтобы удержаться на плаву.
– Ты это сказал! И я хочу быть на плаву. Пусть как говно. Мне нужна аудитория. Да, падок до славы. Да, павлиний хвост.
– Быть знаменитым некрасиво, – встрял я в поток его самооправданий.
– Постулат наперекор собственной славе, в которой Пастернак купался. А ему все было мало. О, если бы я прямей возник.
Мы побивали друг друга цитатами. Понятно, я сослался на его самого-самого, которого он ставил выше нашего солнышка. На ту эпиграмму, которую Боратынский сочинил сразу же вослед смерти Пушкина, а напечатал только год спустя. Опасаясь, что его примут за прототип пушкинского Сальери, а тот, конечно же, никакого отношения не имел к реальному Сальери, который не был завистником и уж паче не отравлял Моцарта. Как я не спаивал Илью, хоть такой слушок и пошел после его смерти. Один только раз, когда он позвонил рано утром, магазины были еще закрыты и уболтал меня принести заначку для опохмелки, но откуда мне знать, что он рванет в новый запой? Чтобы я ему завидовал? Его прижизненному поэтическому дару или посмертной шлягерской славе? Его числителю или его знаменателю? По любому, моя совесть нечиста, что я допекал его своими нотациями, противопоставляя ему его самого, как Боратынский Пушкина – Пушкину:
– Вот именно, что дева, – перебил он меня, потому что знал стихи своего фаворита наизусть. – Сам, без этой капризной девицы строчить стихи я не могу. Только на пару, в соавторстве с Музой, но она все реже заглядывает. В последний раз, чтобы попрощаться. Вот я и пишу свои песенки, чтобы не охренеть и не деградировать. Лекарство от запоя. Пусть не панацея. В любом случае, какие ни есть, а стишки. Лучше, чем молчание.
– Молчание молчанию рознь. Когда у Кюстина в одном из русских домов спросили, почему более не пишет мадам де Жирарден, маркиз объяснил: «Она – поэтесса, а для поэтов молчание также творчество». Есть старинный воспитательный прием – налагать на человека молчание именно тогда, когда он как раз больше всего хочет говорить: «Наложи дверь и замки на уста твои… растопи золото и серебро, какое имеешь, дабы сделать из них весы, дабы взвешивать на них твое слово, и выковать надежную узду, которая держала бы твои уста». О том же пушкинский «Пророк»: «И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный и лукавый…» Да и твой Боратынский: «Но не найдет отзЫва тот глагол, что страстное земное перешел».
Моя дружба с Ильей перешла в дружбу с его последней женой. Еще при его жизни, когда она убегала ко мне от его пьяных непотребств. Это были две раздельные дружбы, а потому я продолжаю с ней встречаться после смерти Ильи, но уже без прежнего напряга и сомнений, пусть ее это и обижает: «Сейчас-то что?»
Любви меж ними не было, а только ревность, которая – с его стороны – мимоходом коснулась и меня, хотя, думается мне, беспричинно. Любил он только первую жену, истратив на нее весь выброс любовного адреналина и полагая себя однолюбом. В этом мы с ним сходились, несмотря на разный матримониальный опыт: я женат только единожды, да и то ненадолго – мы развелись, когда моя девочка наотрез отказалась покинуть со мной любезное отечество. Нашего мальчика, однако, она отпустила со мной – сейчас доучивается в Брауне и до русско-украинской бойни часто наведывал мать. Один раз я увязался с ним.
Не помню, кто из нас додумался перевести это из эмпирики в теорию – что однолюбие в человеческой природе. Любая такого рода страсть поглощает весь любовный потенциал человека, исчерпывает его до самого донышка, что остальным ничего не остается и не достается, окромя похоти или привычки. Все три последующие женитьбы Илья объяснял, что бабы подзалетели от него, с абортом припозднились, вот ему ничего не оставалось и проч.
Как раз первая его любовь была бесплодной, а ребеночек родился, когда Илья был женат на третьей. Хотя вдвойне бывшая жена приписала ему отцовство, он всячески от него открещивался и даже отказывался глянуть на ребеночка, настаивая, что не касался ее уже несколько лет: «Погоди, погоди, но для этого, как минимум, нужно… а мы с тобой бог весть сколько этим не занимались». Я склонен ему верить, коли он даже женился на обрюхаченных им нелюбимых баб.
Тем более тогда уже он входил в моду своими шлягерами, а первая его любовь, хоть хвастала, что никогда не простаивала, но была скорее падка на знаменитости, чем слаба на передок, из-за чего они с Ильей и разошлись. Сиречь изменяла Илье статусно, а не из нимфоманства, будучи, наоборот, ледяшкой, куклой, опять-таки с его слов. Впрочем, и последнюю жену Илья попрекал в сексуальной холодности. Помню, мы чаевничали у него на кухне, и вдруг она вскочила и бросилась за пролетавшей мухой: «Если бы ты была такой прыткой в постели», – сказал Илья. И тут же добавил:
– Сколько лет вместе, а все еще возбуждает.
– Меня тоже, – промолчал я.
Однако не о ней пока что речь, а о его авантюрьерке. А что если это она с ним была фригидкой, как Натали Гончарова с Пушкиным, а с другими давала себе волю и входила во вкус? Ее так и звали в столице: коллекционерша. В своих довольно откровенных, но не ставя точки над Ё воспоминаниях о тогдашних литературных випах она всех их называет друзьями, окромя Ильи, за которым была замужем. В посмертной своей славе Илья превзошел всех, кого она предпочла ему, тогда еще если и широко известному, то только в узких кругах. Естественный бабий отбор шел не по естественному пути.
Нет, не роковуха, потому как роковухой она была единственно для Ильи, из-за нее он, опять-таки с его слов, был близок к самоубийству. Хотя это можно сказать про каждого – кто из нас не избежал этого соблазна, выхода из безвыходного положения? Попытка самоубийства была произведена демонстративно, на ее глазах, из охотничьей двустволки, которая оказалась незаряженной. Знал он об этом или нет – другой вопрос. Она перепугалась, решив, что он хочет ее убить, заподозрив в измене. Убить не убил – ни себя, ни ее, зато размыкал свое мужское горе алкоголем. Тогда он и начал прикладываться к бутылке, которая свела его в могилу.
Илюшин с ней любовный и матримониальный опыт и в самом деле был травматичным. Никак, однако, не повлиявшим на его творческий modus operandi. В отличие от нашего общего нобелевского дружка, который попользовался изменившей ему женщиной для негативного вдохновения. Ну, ладно, снижая – для отрицательного импульса. Счастливых поэтов не бывает, поэтому умелый стихотворец АК – не поэт: хороший, но не настоящий. Предпочитаю настоящих поэтов, пусть даже плохих. Как один поэт сказал о другом: «Сохрани, Боже, ему быть счастливым: с счастием лопнет прекрасная струна его лиры». Таки лопнула, когда нобелевец в поисках счастья несмотря ни на что женился. Муза – ревнивая особа и не терпит соперниц. Зато какой классный любовный цикл выдал ИБ, посвятив его своей femme fatale! Включая ругачий мизогиный стих-постскриптум – свидетельство его неизбывной любви. Иначе откуда такая брань и проклятия? Пусть ААА и говорила, что ИБ путает Музу с бл*дью. Не ей говорить с ее донжуанистским списком. МБ была для ИБ антимузой. Прошу прощения за инициалы – легко расшифруемы.
Иное дело – Илья. Скорее все-таки присуха, чем роковуха, коли никаких сублимированных литературных всходов, а одни токмо муки и запои. Из породы богомолок, а те уничтожают богомолов сразу после соития. Не с них ли пошли амазонки? И хватит о ней: женщина из прошлого. Теперь без разницы: старая седая изношенная… Ладно, пусть будет вагина.
А моя бывшая жена? Если бы не наше с ней прошлое, стала бы она для меня таким всеобъемлющим, фетишным, на всю жизнь настоящим? Это ради нее спустя годы после отвала я смотался с сыном в столицу нашей родины, которая изменилась неузнаваемо, зато она – нет, и я чуть было не остался там навсегда, но тут взыграл ее альтруизм, и она погнала меня прочь, хотя нам обоим было еще упоительней, чем когда мы были женаты. Муж, которому она впервые изменяла со мной, ничем не примечателен, окромя своей непримечательности – не помеха, рассталась бы с ним легко и без сожаления. Но она знала, что здесь мне не место, как ей где-либо, кроме России. А, что говорить. Опять с ссылкой на Тургенева, которого читаю и перечитываю, в отличие от Достоевского, Толстого и Чехова, а те заслонили этого величайшего русского прозаика: Всякая любовь, счастливая, равно, как и несчастная, настоящее бедствие, когда отдаешься ей весь.
Без вопросов: для меня неотличимы – прошлое и настоящее. Мое прошлое и есть мое настоящее. И наоборот. Без прошлого гол, как сокол. Прошлое конституирует меня как человека, как мужчину, как писателя. Без прошлого я мертв. А коли так, то уповаю на бессмертие: мое прошлое переживет мою телесную смерть.
После литературы, которая интересовала нас скорее, как писателей, чем как читателей, второй главной темой у нас с Ильей были бабы. Иногда темы пересекались, когда в добавление к личному опыту мы ссылались литературные сюжеты. Я – на пастернаковский «Марбург» (первая редакция) и «Эротические сонеты» Абрама Эфроса, он – на своего Боратынского, мы – на нашего с ним Бродского. В конце концов, оба-два мы пришли к выводу, что удовлетворить женщину не так просто. Если вообще возможно. Нет, речь не только о женском оргазме, который сам по себе под вопросом для нас мужиков, а бабы ненасытны.
– Уестествить? – уточнил я.
– Не только физиологически, – уточнил Илья.
– Не можешь удовлетворить, так хотя бы возбуди, – попытался я снять эмоциональный напряг нашего трепа.
– А это ты думаешь легко? – продолжал жалиться этот закомплексованный гигант-детина.
– Не можешь уестествить, так хотя бы рассмеши, – предложил я паллиатив.
– Это нам запросто! – хмыкнул ироник Илья.
Так почему Гера так рассерчала на Тиресия, что ослепила его? Выходит, мы добиваемся от бабы то, чего она хочет в разы больше, чем мы? Вот откуда павлиний хвост или пение цикад – самцов, само собой, – чтобы завлечь самок, а те ждут не дождутся любовного зова. Илья вспомнил, как работал дружинником, они нагрянули на танцплощадку и в гардеробе вытаскивали из карманов женских пальто трусики, а потом отыскивали их владелиц и сдавали в милицию. Я возмутился поведением не девушек, а дружинников, на что Илья возразил:
– Но пацаны же не так предусмотрительны!
– Не мы их…, а они нас! – согласился я.
Собственно, об этом мой сказ.
– Фу! – поморщился Илья, который избегал ругачей лексики как в письменной, так и в устной форме. Разве что спьяну.
– Пусть будет эвфемизм – заменим на «трахаем».
Почему каждый из олимпийцев отмежевывался от секса, как от удовольствия? Даже такой ходок, как Зевс, в кого только он не превращался, чтобы бросить палку! Мне больше всего нравится его роман с Алкменой, которая ни за что ему не давала, любя своего златокудрого мужа Амфитриона, и Зевсу ничего не оставалось, как превратиться в Амфитриона, будто бы вернувшегося с войны, и они провели вместе две ночи и еще один день, превращенным Зевсом в ночь – дорвались друг до дружки. Точнее, мне нравится изобретательность дарующего зачатье, как переводится имя Громовержца, а не сама эта история, потому как ложь и обман – ставлю себя на место обманутого мужа. Хотя Алкмену попрекнуть не в чем – так она соскучилась по любимому мужу за время его военной отлучки, а потому изменяла ему как бы с ним самим. На месте Амфитриона я бы ее простил, зато возненавидел Зевса.
А по поводу спора богов, мы с Ильей не спорили, а гадали, высказывая разные предположения и гипотезы и не сойдясь ни на одной. Сплошной релятивизм вперемешку с альтернативизмом: могло быть так, а могло иначе. Потому я и не помню, кому какая из гипотез принадлежала. Да и в других топиках, я уже не знаю, кому принадлежала та или иная реплика и привожу их наобум. Даже цитаты – кто вспомнил Тютчева? кто Заболоцкого? кто Мандельштама?
Куда дальше – мы не просто пересказывали, а обменивались с ним снами. И теперь не ведаю, кому из нас что приснилось. И спросить не у кого – мой друг преждевременно покинул нас из-за цирроза печени. Опускаю мучившие его запойные галлюцинации, плод сумеречного сознания, горячечного воображения и белой горячки. Он меня умучил их телефонными пересказами. Упомяну только забавное его наблюдение, что Босх со своими апокалиптическими видениями скорее всего тоже был алкаш. Нет, я только о трезвых снах, которые теперь не знаю, кому из нас атрибутировать. Этот уж точно мой, потому что Илья мне снился покойником, коим он и является вот уже четверть века. Вот именно, он снился мне живым, но даже во сне я точно знал, что он давно уже помер.
Начало четвертое. В снах бодрствуя
Есть бытие; но именем каким
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье;
Меж них оно, и в человеке им
С безумием граничит разуменье.
Боратынский. Последняя смерть
Живешь, как во сне, как в чужом и кошмарном сне…
Евгений Лесин
Над чем мы не властны, так это над нашими снами, привет Великому Барду, если только он не стырил эту мысль у Монтеня, внимательным и корыстным чтецом коего был, взять того же «Гамлета». Не то чтобы преследует, это было бы литературной гиперболой, но время от времени снится, как я долго, беспокоясь, жду ее, она возвращается за полночь и говорит, что изменила мне, а я не верю и бью, бью ее: «Нет! Нет! Нет!», а она продолжает настаивать. Или это через сны к нам рвется наше подсознание, но пробудившись, мы из инстинкта самосохранения забываем о наших провидческих, вещих снах, дабы спокойно жить и дальше в неведении? А сколько я прождался ее по жизни – опаздывая, она удивлялась, что я все еще жду ее, пока я не улетел на другую планету, так и не дождавшись ее. Это и есть нескончаемая драма всей жизни – моей, а не ее. Ну, как у помянутого Сержа: «Я тебя люблю. Я тебя тоже нет».
По жизни там, на нашей с ней географической родине, наоборот. Когда я осторожно полушутся, дабы не обидеть ее подозрением, выказывал ей свои сомнения, она отвергала их сходу, но каким-то странным двояким способом. С одной стороны, «Оставь мне хоть мое прошлое!», а с другой – считала себя целой, пока не родила, и приписывала мне то знание, в котором как раз я и сомневаюсь: «Ты же сам знаешь, что я даже ни с кем не целовалась!» К тому же, поцелуй она полагала более интимным делом, чем секс, что втягивало меня в дебри, где я проблуждаю до самой смерти, а может и post mortem.
Если со смертью не все кончается, то уж точно у ревности нет ни начала, ни конца. С фетусно-эмбрионального состояния – не оттуда ли Эдипов комплекс, когда в плаценту к плоду тыкается фалл родителя, а может и не родителя – жизненно опасная ситуация, которая откладывается в подсознании будущего существа. А если это существо девочка? Мой скромный вклад в психоанализ. Помню, как меня убалтывала одна девица в туристской группе в Югославии (была когда-то такая страна), что сейчас безопасно, потому что она уже беременна, а влагалище маленькое, матка опустилась, тебе будет хорошо, а меня, наоборот, отвратило. На моем смертном одре я бы задал свой клятый вопрос, но вряд ли услышит, будучи через океан. Разве что телепатически. А успею ли я услышать ее ответ через пси-феномен? И зачем мертвецу это знание на том свете?
А зачем живому? Хочет ли ревнивец знать правду? Не потому ли я кричу ей во сне «Нет!», когда она признается мне в измене? Пусть одной-единственной, без разницы. Если совсем уж честно, меня достает не соперник, а предшественник, если таковой был и даже если его не было. Я даже не уверен, знает ли она сама. А упирается все, что я узнал ее девочкой, а значит девушкой, а потому непредставимо, что некто меня опередил. И вот годы спустя, когда за недостатком у нее там смазки, я наталкиваюсь на препятствие, которое пробиваю своим стояком, и секс райский, и, лаская ее: «Как будто ты еще целочка», что мне не привелось испытать, чему тысяча причин, помимо предтечи, она не обижается, а злится, что повергает меня в стыд перед ней, а сомнения возвращаются спустя. Ах, что говорить. Сомнения в несомненном – если она считала себя целой до рождения нашего сыночка – вот кто ее дефлорировал, вот к кому мне ревновать, а не к ее отцу, который продолжал трахать ее будущую мать, когда уже н*еб ей мою будущую девочку. Сама сказала: «Можешь глубже», пока из страха причинить ей боль, орудовал у самого входа в святая святых.
А преследует меня совсем другой противоположный сон, что мне пожизненному и постжизненному другу Ильи и вовсе странно. Если тот сон – редкий, индивидуальный, личный, у меня в числителе, то этот скорее в знаменателе – знаменательный, знаковый, рутинный, архетипный. Во всех живых подробностях и деталях, как мой друг имярек уходит на целый день, а жена имярека приходит ко мне и надолго остается у меня, и все наши общие знакомые не сомневаются, что у нас срамные отношения, а потом имярек возвращается, и ему это тоже самоочевидно, как и всем, и мой страх перед ним, сильным, большим, вспыльчивым. Я протягиваю ему руку, но он не замечает ни протянутую руку, ни меня, а проходит сквозь меня, как будто меня нет. И у меня искры из глаз как будто он мне вдарил своим огромным кулаком, и один глаз у меня распухает, а потом я лежу голый на спине при всех и пытаюсь перевернуться, чтобы скрыть срам, но мне никак не удается, как Грегору Замзе.
Или я в самом деле превратился в водяного жука, которые завелись у нас в квартире взамен исчезнувших тараканов, огромные и безвредные, но я поймал одного и выбросил ночью в ливень в окно, а теперь меня мучает совесть, что это и был Грегор Замза, и теперь я – Грегор Замза и мне никак не перевернуться, чтобы скрыть орудие греха, хоть я и не уверен, что я грешил им с нею. А он? Вот кого бы спросить, но он властный и безгласный. Зачем ему слова, когда он властвует надо мной без лишних слов? Я и он? Да, виноват в помыслах, потому что хотел ее, представлял, как мы с ней этим занимаемся, дрочил под нее в соседней комнате через стенку. И хотел и дрочил имяреку не саму по себе, а потому что она жена имярека. Или это уже наяву? Я перестал отличать сон от яви.
И еще мне снится один московский эпизод, которого вроде не было, да и не могло быть, мы сдружились с Ильей только здесь в Нью-Йорке, а там за океаном, где я оставил мою первую, последнюю, единственную любовь, потому что она наотрез отказалась со мной ехать, зато сына отпустила со мной, и теперь он по ней скучает у себя в Брауне, а с Ильей были знакомы шапочно, не домами, в гости друг к другу не хаживали, я был далек от окололитературной мишпухи, первую его жену видел пару раз, а он мою – ни разу, насколько мне известно. Почему же тогда во сне я ревную мою жену к нему, будто он встретился с ней и сразу позвонил мне, чтобы узнать, рассказала она мне об их встрече или нет.
А может и в том другом ревнивом сне, где она мне признается, что изменила мне, то не с кем попадя, а именно с имяреком, то есть с Ильей? И я припоминаю, что в том личном сне моя жена говорит, что встретилась с моим другом и отдалась ему из жалости, но, знаешь, говорит она мне во сне, было так хорошо именно потому что из жалости – жалость, нежность, похоть, страсть. А может между мной и имярекой тоже был стыд, не помню во сне? Но если был, то как бы моя спустя годы месть ему за то, что он трахал мою жену, хотя может и не трахал, но на всякий случай. Два сна сталкиваются, отталкиваются и разбегаются, оставив меня в мучительных загадках. Уже проснувшись, мне стыдно, что я, исстрадавшись от ревности незнамо к кому, теперь цепляю моего друга зеленоглазым чудищем. Как я ненавижу мои сны, которые заставляют меня страдать наяву. Что было на самом деле? Или на самом деле было совсем не то, что в действительности? Подсознание струится в моих снах и не может до меня докричаться.
Это было еще там в России, когда жена угодила на скорой в больничку с жизненно опасной болезнью, никакие лекарства и уколы не помогали, я ходил к ней каждый день, а когда возвращался домой, исходил тоской и тревогой, ждал больничных звонков, ожидая худшего. И вот я прихожу в ее палату, подхожу к ее кровати, вглядываюсь, а там лежит моя мама и шепчет мне:
– Как давно ты не приходил, сынок. Я так по тебе соскучилась!
И тут я вспоминаю, что мама давно уже умерла, я сильно переживал ее смерть и мою перед ней вину, даже сочинил рассказ «Умирающий голос моей мамы», за который меня осудили даже близкие друзья, не поняв моей муки.
Я окончательно просыпаюсь и бегу по вымершему городу в больницу, застаю жену спящей, а когда она просыпается, рассказываю свой сон, который, не будучи сомнологом, не могу и боюсь разгадывать: кого мама зовет с собой на тот свет? мою жену? меня? И моя любимая, напуганная моим испугом, утешает меня:
– Ты давно не был у нее на могиле, вот она и скучает по тебе, – сама не веря в свое объяснение.
Но это тоже все мне снится уже здесь в городе надкусанного яблока, а моя мать похоронена в России, и я в самом деле давно не был у нее и никогда уже не буду, а если даже встретимся там, то еще вопрос, узнаем ли друг друга, привет Гейне с Лермонтовым. Я окончательно просыпаюсь в своей холостяцкой квартире, куда убегала, ища убежища и утешения жена Ильи – женские слезы, женские чары… – заглядываю в свой комп, на экране лежит мертвец, очень похожий на Илью, а над ним мой ангелочек голубоглазый сиамец по прозванию Князь Мышкин ввиду его непротивленчества и безумия, который тоже мертв, и его смерть я переживал сильнее, чем смерть мамы. И это уже наяву. Или я все еще сплю?
Больничные сны, начавшись в России, преследуют меня в Америке, но в моих ньюйоркжских снах мне все чаще и чаще снится московская больница, где я посещаю любимую женщину и меж нас там даже экстазный секс, а потом я никак не могу выбраться из той больницы, из того города, из той страны. Кошмар, который стал рутинным, но с каждым сном становится все кошмарнее. Это сон про мою смерть.
Эпилог. Как было или не было на самом деле
Литература – это управляемое и предумышленное сновидение.
Натаниель Хоторн
Если бы! Эпиграфом слова, с которыми я не согласен. Потому и не согласен, что мои сны неуправляемы и непредумышленны, и еще вопрос, пригодны ли для литературы. Потому и пишу, что хочу это выяснить. Великих сомнологов – от библейского Иосифа до моего дорогого ребе Зигги – я мог бы попрекнуть в рационализации сновидений. Ладно, Фрейд действовал психоаналитически, а тут нашелся некий россиянин со странной фамилией Радуга, который просверлил себе дрелью черепуху и вставил в мозг чип с электродами, чтобы контролировать сновидения. В результате этой самодеятельной операции он чуть не заснул вечным сном без никаких сновидений – врачи чудом его спасли. Не есть ли психоанализ виртуальной формой трепанации черепа?
Мои соплеменники – те, что из верующих – в утренней молитве, едва продрав глаза, благодарят Всевышнего за то, что Он вернул им душу. Как это понять? Что Б-г забирает душу на хранение во время нашего сна и возвращает в целости и сохранности, когда мы пробуждаемся? Что сон есть подобие смерти и пробуждение есть воскресение из мертвых? Что душа в наших снах отрывается от тела и бродит где попадя, и Б-г силой возвращает ее на место, где ей положено быть? А где ей положено быть? И что ей положено? Быть или не быть – это про душу?
Кто приоткрывает заслонку, и я вижу во сне, что было или чего не было наяву? Взять мой прерванный роман с моей бывшей женой, которая мне не снится, а снится чужая жена, которая, став вдовой, больше не снится. Что было меж нами, когда она убегала ко мне от пьяного Ильи, и через стену я слышал ее дыхание и дрочил под нее, а она под меня, не решаясь перейти рубикон? От кого я тогда запирался – от нее или от себя? И что было, когда она ворвалась в мой сон – наяву или во сне мы нарушили табу, и покойник, выходит, не зря меня ревновал? Или зря? Желая ее, не желал быть орудием мести разъяренной женщины? Возжелал чистоты отношений – чистый секс без всяких мстительных привнесений? Мужеско-женские отношения без участия в них ее мужа? Ни с ее стороны, но и ни с моей – возжелал ли я ее, если бы она не была женой моего лучшего друга? Латентный гомосексуализм путем подмены объекта? И почему, когда Илья умер, мы, оставшись с ней друзьями, не возобновили наши прежние отношения, которые были или их не было?? Да, два вопроса. Мои вопросы. У нее – один:
– Сейчас-то что?
В отличие от нее, у меня есть литературный выход. Этот вот мой сказ – четыре пролога и эпилог. В чем разница между удачей и неудачей? Другие по живому следу? А величие замысла? Независимо от исполнения? Все, что остается автору, это объединить двух великих поэтов, дабы переложить на них ответственность за весь этот сюжет:
Спешу поздравить с неудачей:
Она – блистательный успех.
Позорно ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.
Владимир Исаакович Соловьев – известный русско-американский писатель, мемуарист, критик, политолог.
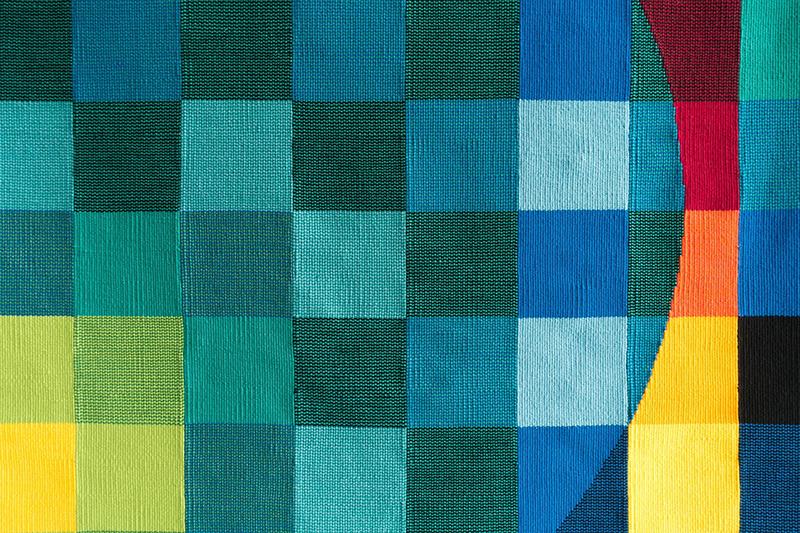

Комментариев нет:
Отправить комментарий