07.10.08
Д. Хмельницкий. "Единственное поражение Сталина"
У меня дома на стене под стеклом висят две старые газеты. Обе посвящены давним, но радостным событиям. «Красная газета» от 24 января 1924 г. сообщает о доставке в Москву из Горок тела умершего Ленина и о всемирной скорби по этому случаю. В «Труде» от 10 марта 1953 года на первой странице опубликована фотография похорон Сталина и траурная речь Маленкова. Перед входом в мавзолей гигантский, как для Гулливера, гроб. На трибуне мавзолея все главные коммунисты мира, человек тридцать, – мелко, но узнаваемо. Посредине Хрущев и Маленков. Рядом Берия и Чжоу Эньлай. На левом фланге кутается в платочек Долорес Ибарурри.
В постсоветской России юбилеи Ленина и Сталина проходят совсем незаметно. Обоим сильно повезло. Ироническое равнодушие, с которым мы, бывшие советские люди, поминаем всуе имена вождей – лучшая и совершенно незаслуженная награда великим людям.
Им везло всегда. Удалось сколотить партию совершенно нового типа. Удалось захватить власть. Удалось помереть своей смертью. Даже если Ильич перед смертью и огорчался, эти огорчения не идут ни в какое сравнение с предсмертными огорчениями его верных соратников. Зиновьев и Каменев огорчались сильнее. Культ Ильича, отрепетированный Виссарионовичем в своих интересах, пережил культ самого Сталина и будет жить еще долго. Образ мудрого, интеллигентного, решительного и гуманного руководителя существует сам по себе, независимо от жутких реалий эпохи, о которой уже даже в России можно читать легально. Сталин оказал Ильичу услугу, которую не собирался оказывать. Дух Ленина был призван держать нимб над головой самого Сталина. Голова почернела и отвалилась, а дух остался и выглядит на фоне личности Сталина и его эпохи вполне идиллически. Естественный для Ильича дореволюционный фон ушел в небытие так давно и прочно, что, казалось, никогда не существовал. Он пропал вместе с людьми, для которых именно Ленин был главным вурдалаком, изгадившим вполне приличную страну.
Советская оттепель началась с «возврата к ленинским нормам», с простодушного Евтушенко, с «…уберите Ленина с денег!». Оттепель началась с ужаса осознавания сходства между гитлеровским и сталинским режимами. Процесс растянулся лет на пятьдесят и до сих пор не достиг кульминации, хотя попутно не только кучка отщепенцев, но и весь советский народ превратились в эмигрантов, а Великая Родина покончила самоаннигиляцией. Наверное, понадобится еще до черта времени, чтобы осознать глубокое несходство между Гитлером и Сталиным и увидеть гораздо более близкие параллели между Лениным и Гитлером.
Есть простой психологический тест на выявление способности к абстрактному мышлению - из нескольких фигур исключить непохожую. В группе из трех вождей – Ленин, Сталин, Гитлер – именно Сталин стоит особняком. Психология Сталина – загадка, черный ящик советской истории. Его взгляды, цели и вкусы до сих пор не расшифрованы. По тотальности террора и отлаженности придуманного им государственного устройства он далеко обогнал своих коллег.
По сравнению со Сталиным Ленин и Гитлер просты и ясны как слеза. Оба – политические идеалисты, сочинившие идею и верно ей служившие (об идеях, руководивших Сталиным, и говорить смешно. Он любую мог вывернуть наизнанку). Оба вышли из средне-интеллигентской среды и активно занимались самообразованием. Обоих самообразование довело до полного разрыва со средой и ее ценностями. Оба были харизматическими лидерами, окруженными соратниками и единомышленниками (Сталина окружали только подхалимы). Обоих уважали и любили товарищи по партии. Их власть, по крайней мере в этом кругу, опиралась на уважение, а не на страх. Сталина соратники тоже любили, но не любить его было смертельно опасно. Гитлер вряд ли сохранил бы любовь Геббельса, если бы арестовал его жену. Сталин такое проделывал неоднократно.
Оба были социалистами. Оба мечтали о переустройстве мира и счастье человечества. Оба предполагали изъять из осчастливленного человечества некоторые недостойные счастья группы – один «классовых врагов», другой – «расовых». Оба получили власть в демократических странах и превратили их в тоталитарные и однопартийные. Ленин, правда, сделал это гораздо более зверскими методами, чем Гитлер. Но у него и положение было более сложное – пришлось воевать. Поэтому роль ЧК-ОГПУ в Советской России была неизмеримо выше, чем роль гестапо в Третьем рейхе. Ленин после захвата власти учинил в собственной стране террор в таких масштабах, на которые Гитлер решился только во время войны и только на чужой территории. Ленин и Гитлер уничтожили приблизительно одинаковое количество людей – 7-10 миллионов (Сталин в несколько раз больше). За террором Ленина и Гитлера стояли безумные утопические идеи. Их реализация часто противоречила практической пользе режима, ставила его на грань краха. Ленину удалось краха избежать, Гитлеру - нет.
Террор Сталина, напротив, был обусловлен практическими, административно-экономическими соображениями. Он всегда шел только на пользу – не населению, конечно, – а режиму. Гитлер и Ленин были по-своему честными людьми – что думали, то и писали. Самые зверские приказы и тот, и другой отдавали, конечно, тайно, но стратегических намерений и целей особенно не скрывали.
Гениальный мистификатор и абсолютный циник Сталин выглядит на их фоне пришельцем из иного мира.
Историческая несправедливость состоит в том, что посмертная судьба всех трех сложилась по-разному. Гитлер выглядит единственным воплощением абсолютного зла в глазах всего человечества, в том числе и советских людей, казалось бы, больше всех пострадавших от деятельности тройки. О Сталине, его политике, целях и личных качествах и через десятилетия после выхода «Архипелага ГУЛАГ» ведутся дискуссии.
Если в вопросе о внутрисоветских преступлениях Сталина существует какой-никакой консенсус, и существование ГУЛАГА практическо никто не ставит под сомнение, то роль Сталина и СССР во второй мировой войне по прежнему тема для ожесточеннейших исторических и идеологических споров. Причем мифы о миротворческой и антифашисткой роли СССР, которые с огромным трудом изгоняются не только из советской, но и из западной исторической науки, были когда-то придуманы самим Сталиным. Но надолго его пережили.
Часть вины за это ложится на Нюрнбергский процесс. При всех своих достоинствах в одном серьезном отношении он оказался фарсом: нацистских военных преступников судили в составе международного трибунала советские военные преступники. Руденко, обвинявший Кальтенбруннера, так же как Сталин, обвиняющий Гитлера, – это было надругательство над идеей трибунала, которого все участники не могли не сознавать. Одни с чувством бессилия, другие со злорадством. Полвека понадобилось, чтобы общественность (европейская, но еще не советская) задалась наконец вопросом, действительно ли Сталин лучше Гитлера, или все-таки такой же плохой?
А Ленин? Он тут вообще ни при чем. Все было давно и неправда. Культ Ленина, обросший добродушными анекдотами, обернулся культом ритуального графического символа с лысиной и бородкой, не вызывающими у общественности, в противовес гитлеровским усикам, положительно никаких чувств. Образ Ленина сменился образом его мумии со сложной судьбой. Самая веселая проблема российской политики – следует ли ее похоронить или оставить лежать экспонатом.
Наверное, все нормально. Очень трудно связать приказы о массовых расстрелах заложников со знакомым всю жизнь юным блондином на октябрятской звездочке и пожилым мудрецом с картин Бродского. Не у всех получается.
Есть некое ситуационно-психологическое сходство между конфликтом Ленина и Сталина в последние годы жизни Ленина и конфликтом Сталина и Гитлера, тоже окончившимся гибелью последнего. Оба – и Ленин, и Гитлер катастрофически неправильно оценили человека, которого оба – один долго, а другой коротко – считали своим союзником.
***
Поражение Красной армии летом 1941 г. – самое, да и наверное, единственное неожиданное событие сталинской истории. Это единственное очевидное поражение Сталина, нарушение его планов. Все остальное всегда шло по планам, или, по крайней мере, логически вытекало из прочих действий советской власти.
До 1941 г. и после 1945 г. все беды, несчастья и трудности советского населения были инспирированы изнутри страны, ее собственным руководством. Поэтому все прочие беды советской истории (тоже с миллионами трупов – коллективизация, индустриализация, полицейский террор) всегда подавались казенной советской историографией либо как победы и достижения, либо как временные трудности, обусловленные непреодолимыми обстоятельствами. В крайнем случае, как ошибки и отклонения от правильного курса. И только военные поражения лета 1941 г. остались в сознании советских людей, как катастрофа, злой умысел коварного врага. Фактически, понесенные тогда (и позже, во время войны) жертвы, были единственными за всю советскую историю, которые официально признавались жертвами в советское время. По очень простой причине – их было легко списать на врага.
И ответ на вопрос о причинах военного поражения 41 г. всегда казался совершенно очевидным: враг коварно напал на беззащитное, не готовое воевать и ничего не подозревающее советское государство. Отсюда и миллионные потери в первый момент, и тяжелейшее трехлетнее выдавливание вермахта за пределы СССР.
Это ответ очевидный для советских людей, отученных думать над официальными формулировками, и совершенно неудовлетворительный для тех, кто способность думать не потерял.
Полагаю, что гибель всей кадровой Красной Армии последовала не вследствие неготовности СССР к войне, а по прямо противоположной причине.
Сталинский СССР слишком хорошо готовился к войне. Собственно говоря, ничем другим советские люди в течение полутора предвоенных десятилетий не занимались. Хотя далеко не все об этом подозревали. СССР готовился к войне, забыв обо всем остальном, и к тому же, к моменту нападения Германии уже полтора года в ней участвовал – наравне с Гитлером и в качестве агрессора. Вот к чему совершенно не были готовы ни советские люди, ни сам Сталин, так это к роли жертв агрессии.
Вообще-то, тут стоит уточнить терминологию. Выражения типа «СССР готовился» или «не готовился к войне», «СССР полагал, надеялся, рассчитывал...» – не верны по сути. СССР тридцатых годов – это Сталин и больше никто. Даже Молотов и Каганович были лишь исполнителями. Статистами, но не игроками. Статистов Сталин менял, пугал, порол, возвышал, использовал, убивал, сажал и освобождал, но решения принимал только сам. Так же, как только сам ставил ключевые задачи и определял цели. Выстроенная Сталиным к началу тридцатых структура власти исключала даже минимальную внутрипартийную коллегиальность, даже на уровне Политбюро. Поэтому планы и политика СССР того времени – это планы и политика Сталина.
Принцип своей внешней политики Сталин очень емко выразил в письме Молотову и Кагановичу от 2 сентября 1935 г.: «Калинин сообщил, что Наркоминдел сомневается в допустимости экспорта хлеба и других продуктов из СССР в Италию ввиду конфликта в Абиссинии. Я думаю, что сомнения Наркоминдела проистекают из непонимания международной обстановки. Конфликт идет не столько между Италией и Абиссинией, сколько между Италией и Францией с одной стороны и Англией – с другой. Старой Антанты нет уже больше. Вместо нее складываются две антанты: антанта Италии и Франции с одной стороны, и антанта Англии и Германии – с другой. Чем сильнее будет драка между ними, тем лучше для СССР. Мы можем продавать хлеб и тем, и другим, чтобы они могли драться. Нам вовсе невыгодно, чтобы одна из них теперь же разбила другую. Нам выгодно, чтобы драка у них была как можно более длительной, но без скорой победы одной над другой»[i].
Здесь речь идет о конкретной ситуации, но обозначен главный принцип советской политической стратегии: стравить противников (а потенциальные противники – все европейские страны вообще), дождаться пока они ослабеют и тогда напасть. Именно в этом заключалась суть внешней политики СССР в тридцатые годы. Раньше и позже – тоже, но только в тридцатые шансы на достижение этих целей стали катастрофически большими.
В речи Сталина 19 августа 1939 г, изложение которой было опубликовано в ноябре 1939 г. агентством «Гавас», а потом найдено в российских архивах Татьяной Бушуевой, другими словами декларировались те же самые цели. Вот цитата из текста, найденного Татьяной Бушуевой:
«...Если мы заключим договор о взаимопомощи с Францией и Великобританией, Германия откажется от Польши и станет искать "модус вивенди" с западными державами. Война будет предотвращена, но в дальнейшем события могут принять опасный характер для СССР. Если мы примем предложение Германии о заключении с ней пакта о ненападении, она, конечно, нападет на Польшу, и вмешателъство Франции и Англии в эту войну станет неизбежным. Западная Европа будет подвергнута серьезным волнениям и беспорядкам. В этих условиях у нас будет много шансов остаться в стороне от конфликта, и мы сможем надеяться на наше выгодное вступление в войну.
Опыт двадцати последних лет показывает, что в мирное время невозможно иметь в Европе коммунистическое движение, сильное до такой степени, чтобы большевистская партия смогла бы захватить власть. Диктатура этой партии становится возможной только в результате большой войны. Мы сделаем свой выбор, и он ясен. Мы должны принять немецкое предложениение и вежливо отослать обратно англо-французскую миссию. Первым преимуществом, которое мы извлечем, будет уничтожение Польши до самых подступов к Варшаве, включая украинскую Галицию.... В то же время мы должны предвидеть последствия, которые будут вытекать как из поражения, так и из победы Германии. В случае ее поражения неизбежно произойдет советизация Германии и будет создано коммунистическое правительство. Мы не должны забывать, что советизированная Германия окажется перед большой опасностью, если эта советизация явится последствием поражения Германии в скоротечной войне. Англия и Франция будут еще достаточно сильны, чтобы захватить Берлин и уничтожить советскую Германию. А мы не будем в состоянии прийти на помощь нашим большевистским товарищам в Германии.
Таким образом, наша задача заключается в том, чтобы Германия смогла вести войну как можно дольше, с целью, чтобы уставшие и до такой степени изнуренные Англия и Франция были бы не в состоянии разгромить советизированную Германию. Придерживаясь позиции нейтралитета и ожидая своего часа, СССР будет оказывать помощь нынешней Германии, снабжать ее сырьем и продовольственными товарами... Для реализации этих планов необходимо, чтобы война продлилась как можно дольше, и именно в эту сторону должны быть направны все силы, которыми мы располагаем в Западной Европе и на Балканах.... Товарищи! В интересах СССР – Родины трудящихся, чтобы война разразилась между Рейхом и капиталистическим англо-французским блоком. Нужно сделать все, чтобы эта война длилась как можно дольше в целях изнурения двух сторон. Именно по этой причине мы должны согласиться на заключение пакта, предложенного Германией, и работать над тем, чтобы эта война, объявленная однажды, продлилась максимальное количество времени».[ii]
Вокруг происхождения этого текста до сих пор ведется очень бурная дискуссия. Не все исследователи верят в их подлинность, так как никаких других документов, неопровержимо подтверждающих то, что речь 19 августа имела место, пока не обнаружено. Есть две версии – либо речь эта действительно была произнесена, либо некто, осведомленный о планах Сталина и обсуждениях, ведущихся в кремлевской верхушке, смоделировал ее. Последнее очень маловероятно, слишком много существует доказательств в пользу достоверности изложений речи, [iii] но даже если это и не так, то нет сомнений в том, что политические цели Сталина изложены в предполагаемой фальшивке совершенно адекватно реальности. Ее мог сделать только крайне осведомленный человек. Не существует данных, что Сталин мог иметь иные цели и иные планы. Все действия Советского Союза после 19 августа 1939 г. (и до –тоже) отлично укладывfются в изложеную в записях речи концепцию.
Стоит обратить внимание на фразу:
«...Если мы заключим договор о взаимопомощи с Францией и Великобританией, Германия откажется от Польши и станет искать "модус вивенди" с западными державами. Война будет предотвращена, но в дальнейшем события могут принять опасный характер для СССР».
В чем могла заключаться опасность для СССР? Речь не идет о военной опасности извне, раз «война будет предотвращена». А охотников по доброй воле нападать на СССР в довоенной Европе никак не наблюдалось. В 20 г. советское руководство игралось с тезисом, что Польша спит и видит как напасть на Советский Союз, в начале тридцатых в качестве «вероятных противников» рассматривалась фантастическая коалиция всех западных соседей СССР, но все это было даже не вздором, а идеологической завесой, маскировавшей собственные планы войны против всех своих соседей. Вероятных противников СССР выбирал себе сам, и степень вероятности зависела не от их планов, а от советских.
Если исходить из сталинской логики, то опасность для СССР состояла вневозможности развязать мировую войну так, чтобы вступить в нее после того как все прочие участники истощат свои силы. То есть, это была опасность идеологическая. В реальную военную опасность эта ситуация могла бы перерасти только, если бы СССР все-таки решился бы напасть на мирную, и, следовательно, немедленно объединившуюся против него Европу.
Главную опасность для будущего СССР, согласно Сталину, представляло собой предотвращение войны. Вот чтобы предупредить эту опасность Сталин и пошел на заключение договора с Гитлером. Договора, предусматривавшего начало мировой войны, сталкивавшего Германию с коалицией западных государств, развязывавшего руки Сталину в Восточного Европе, смыкавшего советские границы с германскими и создававшего реальную и желанную для Сталина возможность вмешаться в мировую войну в нужный момент в качестве «арбитра». Иными словами, единственного победителя. «Советизация» Германии была запрограммирована Сталинымв пакте Молотов-Риббентроп изначально. Причем, интересно, что в первую очередь «советизация» Германии планировалась в случае поражения Германии в войне с Англией и Францией. Это могло означать только одно: в тот момент, когда немецкие войска терпят поражение на западе, СССР входит на германскую территорию с востока и идет дальше на запад уже в качестве союзника «советизированной Германии». Трудно позавидовать роли, которая в этом сценарии была уготована Гитлеру.
Таким образом, одной из главных причин военных поражений Советского Союза летом 1941 г. была сталинская внешнеполитическая стратегия в целом. Не будь перманентной нацеленности СССР на разжигание мировой войны, война бы просто не началась. Поворотный момент этой стратегии наступил именно 19 августа 1939 г., если исходить из того, что Сталин действительно в этот день принял решение заключать пакт с Гитлером и открыл свои карты соратникам.
Все зависело только от Сталина. Не заключи он пакт, война была бы предотвращена, границы остались на прежних местах, и столкновение Германии с СССР было бы физически невозможно.
Гитлер же, при всех его военных амбициях был в этом альянсе фигурой зависимой. Откажись Сталин заключать соглашение и заключи он договор о сотрудничестве с англичанами и французами, то все. На этом свобода действий Гитлера кончалась, а мечты о расширении жизненного пространства в любую сторону, продолжали оставались мечтами. Пакт открывал Гитлеру дорогу в Польшу, и, главное, на Запад. Впрочем нет оснований полагать, что Гитлер так уж стремился в 1939 г. к немедленной общеевропейской войне – объявление войны западными союзниками его здорово ошарашило. Но вот насчет Сталина сомнений нет. Стремился, и еще как.
Однако, при заключении пакта возникала уже реальная опасность, которую Сталин должен был бы учитывать – Гитлер мог сообразить, что его планы на будущее Европы, отличаются от планов Сталина. И сообразить, какую судьбу Сталин готовит Германии, Европе и ему лично. Но ситуация, в которую попадал (и попал) Гитлер, поняв уже после увязания в европейской войне, что угроза с Востока, ранее, до пакта,воспринимавшаяся во всей Европе скорее гипотетической и абстрактной, вдруг стала совершенно реальной, не оставляла ему слишком много вариантов действий. Собственно говоря, в этот момент оставался только один вариант – второй фронт на востоке.
Спорам о причинах германо-советской войны 1941 г. как правило особо напряженный, даже истерический характер придает обсуждение темы «превентивности». Благодаря ей сугубо академическая, историческая проблема приобретает острое идеологическое значение. Согласиться с тем, что Гитлер напал на СССР вынужденно, для многих участников даже вполне серьезных научных дискуссий означает – оправдать Гитлера. Что странно. Как будто после того, что Гитлер уже успел натворить к лету1941 г., его можно оправдать тем, что нападение на Сталина было вынужденным. Репутация Гитлера совершенно не зависит от того, превентивно он напал или непревентивно. А вот репутация Сталина (и СССР) зависит от этого очень сильно. В случае доказанной превентивности, СССР – агрессор, которого опередили. Превентивность не доказана – СССР в чистом виде жертва.
Тема эта достаточно изучена многими вполне добросовестными исследователями. Картина вырисовывается такая. Скорого, в течение ближайших недель, нападения на Германию Гитлер в июне 1941 г. не ожидал, хотя именно оно было совершенно реальным, что многократно доказано и российскими, и западными историками. Немецкая разведка имела очень неполное представление о состоянии развертывания Красной армии. Была более или менее ясна картина происходившего в трехсоткилометровой приграничной зоне, но немцы не представляли себе всего военного потенциала Красной армии, не знали о втором и третьем стратегических эшелонах.
Отдавая приказ о подготовке операции «Барбаросса» Гитлер не ожидал скорого удара Красной армии, хотя по мере приближения даты собственного нападения, обеспокоенность немецкого военного руководства происходившим в советской приграничной зоне все-время возрастала.
То, что СССР в принципе представляет собой открытую военную угрозу Германии, а его аппетиты далеко выходят за рамки, оговоренные пактом Молотова-Риббентропа, немецкому руководству было совершенно ясно по крайней мере с лета 1940 г. Сталин мог напасть через полгода, через год или через два, это все равно делало ситуацию для Гитлера невыносимой, поскольку парализовывало его действия. Закончить войну на Западе Гитлер не мог, не используя полторы сотни дивизиий, стоявших на Восточной границе. И увести их не мог, потому что агрессивные намерения Сталина были очевидны. Патовая ситуация тоже не могла продолжатся слишком долго, поскольку приводила только к ухудшению стратегического положения Германия. Сталин ждать мог, а Гитлер – нет. В этой ситуации Гитлер решил разрубить гордиев узел и, разбив Красную армию, развязать себе руки на Западе.
Идеологические планы расширения «жизненного пространства» на восток играли в этой ситуации третьестепенную роль, если вообще играли. Об этом совершенно отчетливо писал Геббельс в дневнике 16 июня 1941 г. Пропагандой в дневниковых записях, естественно, и не пахнет:
«Фюрер подробно объясняет мне положение: наступление на Россию начнется, когда закончится наше развертывание. Это произойдет в течение недели.... Русские скопились прямо на границе, это для нас лучшее, из того что могло произойти. Если они рассредоточившись отступят в глубь страны, то будут представлят большую опасность. У них есть 180-200 дивизий, возможно даже меньше, в любом случае приблизительно столько, сколько у нас. В кадровом и техническом отношении их даже сравнивать с нами нельзя.... Фюрер оценивает длительность акции в 4 месяца, я оцениваю в меньший срок. Большевизм рассыпется, как карточный домик.... Мы должны действовать. Москва хочет держаться вне войны, пока Европа не устанет и не истечет кровью. Тогда Сталин захочет действать, большевизировать Европу и вступить во власть. Эти его расчеты будут перечеркнуты. Наша акция подготовлена так хорошо, насколько это вообще в человеческих силах. Подготовлено столько резервов, что неудача просто исключена. Географически акция не ограничена. Борьба будет продолжаться до тех пока, пока русские войска не перестанут существовать....
Россия нападет на нас, если мы ослабеем и тогда мы получим войну на два фронта, которую мы предотвращаем этой превентивной акцией. Только тогда у нас будет свободный тыл...
Мы должны также напасть на Россию, чтобы высвободить людей. Непобежденная Россия связывает 150 дивизий, которые нам срочно нужны длявоенной экономики. Ее нужно усилить, чтобы реализовать программы производства оружия, подводных лодок и самолетов, тогда США не смогут нам ничего сделать. У нас есть материалы, сырье и машины для трехсменной работы, но не хватает людей. Если Россия будет разбита, мы сможем высвободить целые призывные возраста и строить, вооружаться, готовиться. Только тогда можно будет начать воздушную войну с Англией на другом уровне. Вторжение все равно малореально. Итак, речь о том, чтобы гарантировать победу иным образом....
Тенденция всего похода лежит на ладони: большевизм должен пасть, и у Англии будет выбито из рук последнее оружие на континенте. Большевистский яд будет изгнан из Европы. Против этого даже Черчиль и Рузвельт могут мало что возразить. В России не будет восстановлен царизм, но на смену еврейскому большевизму придет настоящий социализм... Сотрудничество с Россией было пятном на нашем мундире. Оно будет теперь смыто. То, против чего мы всю жизнь боролись, теперь будет уничтожено».[iv]
Неделей раньше, 8 июня, Геббельс записывает. «Получил программу территориального деления Р<оссии>. Требуется очень большой аппарат. Об азиатской части Р. речь не идет. Заботится придется только об европейской.
Сказал же Сталин недавно Мацуоке, что он азиат. Что ж, пожалуйста!».[v]
А вот кусочек записи от 14 июня 1941 г. «Русские, похоже, ничего не подозревают. Во всяком случае, они развертываются так, как мы только можем желать: очень скученно, легкая добыча».[vi]
В этих записях есть несколько интереснейших моментов.
Во-первых, видно, насколько нацисткая верхушка ошибалась насчет масштаба советских военных приготовлений. Геббельс и Гитлер рассчитывали на 180-200 советских дивизий (или меньше), в реальности их было только в двух первых стратегических эшелонах более 250.
Во-вторых, концентрация советских войск на границе не рассматривается как указание на скорое нападение. Его не ждали, но зато радовались, что скученные советские войска станут легкой добычей. Как это, впрочем, и случилось.
В-третьих, в стратегической угрозе, исходящей от Сталина и Красной армии нацистская верхушка не сомневается. Сталин нападет, как только получит к тому благоприятную возможность. Поэтому убирать войска от восточной границы ни в коем случае нельзя.
В-четвертых, мотив нападения обозначен совершенно точно – превентивная акция, ставящая своей целью снять угрозу с Востока, чтобы успешно закончить войну с Англией. Причем, эта акция не рассматривается как война на два фронта, наоборот, она должна таковую предотвратить. И правда, в тот момент вермахт не вел военныхдействий на суше. Но любая активизация на западном фронте с использованием сил, передислоцированных с востока, автоматически означала нападение Сталина на ослабленный участок и открытие второго фронта при крайне неблагоприятных обстоятельствах. То есть, главная цель нападения Германии на СССР – благополучное завершение войны с Англией. А завоевание «жизненного пространства» на востоке и ликвидация большевизма – цель второстепенная и не определяющая стратегию. В записях Геббельса нет ни слова о захвате земель на Востоке как главной цели германо-советской войны. И нет ничего о борьбе с «низшими расами», как о движущей силе восточного похода. Идеология вообще не играла никакой роли при принятии решения воевать с СССР. Аппетиты Германии простираются только на европейскую часть СССР и только в силу необходимости. Раз Сталин «азиат», вот пусть и отсиживается в Азии.
В тот момент Гитлеру не требовалось никакого «жизненного пространства», его у Германии в 1941 г. и так было с избытком. Гораздо больше, чем физических возможностей освоить, усмирить и контролировать захваченную половину Европы.
Таким образом, конкретная причина поражений Красной армии летом 1941 г. – ошибка в расчетах. Если бы окончание развертывания Красной армии для нападения было запланировано не на середину июля, а на месяц раньше, такое же страшное поражение могло бы ожидать вермахт. Видимо, как полагают некоторые исследователи, напр. австрийский историк Хайнц Магенхаймер, советское руководство не ожидало, что Гитлер нападет внезапно и так скоро. Предполагалось, что сначала последуют дипломатические демарши, ультиматумы, политические требования и т.п.
Геббельс подробно описывает в дневнике в мае-июне 1941 г. маскировочные усилия, которые прилагались Германией, и в особенности его ведомством, чтобы создать у СССР впечатление, будто Германия готова на переговоры. Отсюда, вероятно, и игнорирование Сталиным предупреждений о начале войны. До окончания подготовки к нападению оставались считанные недели, он рассчитывал дотянуть. А уже тогда немецкие приготовления переставали играть какую-бы то ни было роль. Точно так же, как мгновенно обесценились 22 июня 1941 г. все многолетние усилия СССР по подготовке собственного нападения на Европу.
Собственно говоря, обе стороны, готовившиеся к нападению друг на друга весной 1941 г. сделали одну и ту же ошибку. Обе недооценивали опасность нападения противникав краткосрочной перспективе и обе рассчитывали на полный успех собственных военных приготовлений. Обе готовились совершить один и тот же маневр с одинаковыми целями. Никто из них не готовился к обороне. В силу стечения случайных обстоятельств, а вовсе не военно-тактической прозорливости Гитлеру удалось опередить Сталина. Но могло получиться и наоброт. И тогда сегодня обсуждались бы ошибки Гитлера, приведшие к поражению вермахта в июле 1941 г.
***
Итак, обе стороны готовились к нападению, обе видели угрожающие военные приготовления противника и обе не ожидали того, что противник нападет в самое ближайшее время. Имеет смысл поставить вопрос о «превентивности» нападения Германии на СССР несколько иначе. А именно: собирались ли партнеры по пакту «Молотов – Риббентроп», заключая его в августе 1939 г., этот пакт добровольно, без нажима внешних обстоятельств в обозримое время, нарушить? Или были намерены соблюдать?
Насчет Сталина сомнений нет. Он не просто собирался нарушить пакт, для него соглашение с Гитлером было шагом к достижению цели, полностью противоречащей существу пакта: Сталин ни с кем не собирался делить Европу. Тому есть множество доказательств. И наоборот, не существует признаков того, что стратегические планы Сталина (и СССР) могли бы быть иными. Все военное планирование СССР с конца 20-х гг. (и раньше тоже) было направлено на то, чтобы в один прекрасный день суметь победить армии всех европейских стран вместе взятых.[vii] При полном отсутствии реальной, не спровоцированной собственными действиями угрозы со стороны европейских соседей.
Тут возникает естественный и важный для обсуждаемой темы вопрос: когда СССР начал готовить нападение на Германию? Целенаправленная подготовка к нападению на Европу (и на Германию, естественно) началась в Советском Союзе задолго до принятия Гитлером решения о разработке в 1940 г. операции «Барбаросса». И задолго до прихода Гитлера к власти.
Американец Джон Скотт провел пять лет на промышленных стройках Урала.
В книге, выпущенной в Стокгольме в 1944 г. он написал: «В 1940 г. Уинстон Черчиль объявил английскому народу, что ему нечего ожидать кроме крови, пота и слез. Страна воюет находится в войне. (...) Однако Советский Союз уже с 1931 г. находился в состоянии войны и его народ исходил потом, кровью и слезами. Людей ранило и убивало, женщины и дети замерзали, миллионы умерли от голода, тысячи попали под военные суды и были расстреляны в боевом походе за коллективизацию и индустриализацию. Готов поспорить, что в России борьба за производство чугуна и стали привела к большем потерям, чем, чем битва на Марне в первую мировую войну. В течение всех тридцатых годов русский народ вел войну – промышленную войну».[viii]
Это была промышленная война, которая должна была приблизить войну настоящую. Все жуткие события сталинской истории, которые мы привыкли воспринимать по отдельности – коллективизация, индустриализация, разнообразные волны репрессий – были элементами реализиции одного глобального плана по превращению СССР в военный лагерь, а населения частично в солдат, частично в рабов. Что, собственно говоря, в сталинской ситуации – одно и то же.
Идеологическое прикрытие всех этих событий было блефом. Коллективизация не была обусловлена никакой классовой борьбой в деревне. Индустриализация не ставила своей целью экономический подьем страны. И даже политические репрессии были не политическими. Политические противники советской власти были уничтожены или полностью парализованы еще в 20-е годы. Антисталинистские настроения можно было подавлять в 30-е годы репрессиями, на много порядков меньшими, чем то, что происходило.
Все сталинские акции и реформы, называющиеся политическими, на самом деле носили чисто экономический характер. Это был процесс милитаризации страны на сталинский лад.
Нужно было в кратчайшие срок построить военные заводы, обеспечивающие вооружение самой сильной армии в мире. Для этого требовались а) средства, б) современные технологии, в) дешевая, а еще лучше – бесплатная рабочая сила, г) социальная структура, позволяющая руководству страну без ограничений манипулировать всеми ресурсами страны – продовольствием, сырьем, продукцией промышленного производства, рабочей силой. Все эти задачи решались параллельно. Главной целью советской индустриализации было строительство военно-промышленного комплекса за счет снижения до физически возможного минимума уровня жизни населения. Эта была цель, прямо противоположная тому, что называется развитием экономики. Нормальный рост экономики обычно означает повышение благосостояния граждан, рост комфортности жизни. Сталинская военная промышленность создавалась за счет разрушения, ликвидации гражданской экономики и снижения уровня жизни населения.
Военно-промышленную технологию следовало закупить на Западе, своей не было. Этот процесс начался в 1927-28 гг. В 1929 – огромный успех. Американский архитектор Альберт Кан получает от СССР заказ на проектирование сотен промышленных предприятий на общую сумму в 2 миллиарда долларов. Благодаря контактам с Каном и другими западными фирмами в СССР пошел поток военно-промышленной технологии, станков, всевозможного обрудования.
Навстречу шел поток хлеба, всякого другого продовольствия и леса. Больше СССР неоткуда было взять валюту. Оба потока достигли кульминации в 1932-33 гг.; как следствие, именно на эти годы пришелся пик массового голода в стране со многими миллионами жертв. Коллективизация была средством выкачивания продовольствия из деревни и перекачки «лишнего», обращенного в рабство крестьянского населения в рабсилу на стройках пятилетки. Новые предприятия строились вблизи от источников сырья, там, где добровольные рабочие руки вообще найти было невозможно. А требовались десятки миллионов, причем бесплатных.
Это проблема решалась несколькими путями. Той же коллективизацией; выдавливанием «лишнего», бесполезного с точки зрения государственных сталинских задач населения из городов с помощью таких мер, как введение паспортной системы; сменявшими друг друга волнами репрессий. Параллельно изменялась социальная структура общества. Из нее изгонялись остатки экономических и гражданских свобод. В идеальном виде сталинская система государственного устройства СССР, выстроенная уже к 1931 32 гг,представляла собой концентрационный лагерь, в котором собственно ГУЛАГ служил карцером. Остававшиеся на свободе имели больше привилегий и лучшее обеспечение, чем заключенные, но никак не больше гражданских прав. Даже сталинские наркомы.
Люди, пережившие эти времена в Советском Союзе, мемуаров практически не оставили. Но в Европе, а особенно в Германии, в 30-е годы были выпущены сотни книг о жизни в СССР. Большинство авторов – иностранные рабочие, инженеры, бывшие коммунисты, жившие и работавшие в СССР, или журналисты, съездившие в СССР туристами. Для нацисткой пропаганды, издававшей такие книги гигантскими тиражами, они были подарком. Что, впрочем, не говорит о том, что они не были правдивыми. Да и смешно было бы клеветовать на сталинский СССР, действительность была страшнее любых фантазий. Вот один пример.
Весной 1932 года молодой немецкий архитектор Рудольф Волтерс приехал в Новосибирск в качестве «иностранного специалиста». Через год работы он вернулся домой и, потрясенный увиденным, издал книжку «Специалист в Сибири».[ix] Волтерс с огромным сочувствием описал странное общество, состоящее как бы из одних инфантильных подростков. Что-то вроде хорошо организованного интерната для детей с замедленным развитием. Члены этого сообщества лишены свободы воли, свободы выбора, чувства собственного достоинства и, кажется, не понимают, что это такое. Они испытывают постоянный ужас перед тайной полицией и страх перед начальством, воплощенным в трех ипостасях – парторг-профорг-директор. Начальство состоит из таких же подростков, только облеченных доверием. Они живут в кошмарных условиях, но при этом думают, что на Западе живут хуже. Они не могут менять место работы и место жительства, в любую минуту их могут лишить хлебной карточки (в начале 1933 года – 400 граммов хлеба в день на работающего). При этом они уверены, что строят социализм и с нетерпением ждут дня окончания пятилетного плана, потому что им было обещано – в этот самый момент уровень жизни возрастет втрое. Ведь об этом писали в газетах!
С грустной иронией вспоминает Вольтерс совет, который постоянно слышал от своих собеседников: «Вы должны читать газеты. То, что Вы видите своими глазами, создает у Вас неправильное впечатление о нашей системе!» И анекдот на ту же тему: учитель рассказывает в классе, что на Тверской улице построена новая фабрика. Ученик: «Я живу напротив, там уже пять лет только один забор». Учитель: «Дурачок, читай газеты, там это написано черным по белому».
К 1932 году Сталин уже вылепил общество, готовое воспринимать реальность не собственными органами чувств, а через газеты – черным по белому. И придумал для него все необходимые мифы – черным по белому. Вождь был гениальным режиссером и психологом. Он дал одураченным до идиотизма людям самое главное – ощущение своей ценности, нужности и благородства. Сплоченное сталинскими мифами общество сумело пережить и самого вождя, и его имидж, и формальную смену государственной системы.
Цель у всех сталинских мероприятий с самого начала его правления, с 1927 г,. была одна – скорейшее строительство очень сильной армии и развязывание мировой войны. Последняя цель была достигнута в 1939 г.. А к 1941 г. у Сталина была армия, несоизмеримая по численности и технической мощи ни с одной другой армией Европы. Заключая в 1939 г. пакт с Гитлером, Сталин ни в коем случае не собирался останавливаться на достигнутом.
***
А собирался ли Гитлер, заключая пакт в августе 1939 г., в ближайшее же время его нарушить? Соглашение со Сталиным открывало Гитлеру путь на Запад и гарантировало (или предполагалось, что гарантирует) безопасный тыл. Если он уже в 1939 г. планировал параллельно (или последовательно) захватить и западную Европу, и Советский Союз, это значит, что он уже тогда фактически готовил войну на два фронта. И намеревался обмануть Сталина точно так же, как Сталин (что несомненно доказано) намеревался обмануть Гитлера.
Если же такого рода планов у Гитлера в 1939 г. не было, и он заключал пакт всерьез, с намерением его соблюдать, то это значит, что нападение на СССР было вынужденным, то есть превентивным.
Мог быть и третий вариант: в 1939 г. не собирался, а потом под влиянием побед на Западе, аппетит разыгрался... Но этот вариант однозначно недоказуем. Незаконченная и малоперспективная война с Англией и реальная перспектива войны с маячившими за Англией на антлантическом горизонте США не давали в 1941 г. повода для особого оптимизма и упоения победами, какими бы эффектными они ни казались.
Вроде бы не опубликовано никаких данных, говорящих о том, что Гитлер до лета 1940 г., то есть до аннексии Сталиным части Румынии, планировал начать восточный поход и к тому же в самое ближайшее время.
В подтверждение этой версии всегда цитируется только одна фраза «Майн Кампф»: «Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду в первую очередь только Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены».[x]
На очевидный вопрос, зачем Гитлеру, захватившему к 1941 г. половину Европы, но так и не победившему окончательно в войне на Западе, более того, не имеющему очевидных шансов победить и освоить в обозримом будущем уже захваченные территории, понадобилось бы нарушать союзный договор с СССР и открывать второй фронт на востоке, – на этот вопрос следует традиционный ответ: он же сам написал, что нападет на Россию. Вот и напал.
Как раз этому объяснению и не стоит верить с ходу. Потому что в «Майн Кампф» Гитлер написал не только это. И даже не совсем это.
Гитлер писал свою печально знаменитую книгу в тюрьме в 1923-24 гг. после провала путча. О грядущей победе он тогда мог только мечтать. Строго говоря, его книга – не пропагандистская литература, а партийная теория, которая должна была в будущем лечь в основу массового движения. Это искренние размышления потерпевшего на тот момент поражение крайне правого экстремистского политика о судьбе Германии.
Главная цель Германии видится ему в отказе от борьбы за колонии в пользу завоевания новых земель в Европе: «Пока нашему государству не удалось обеспечить каждого своего сына на столетия вперед достаточным количеством земли, вы не должны считать, что положение наше прочно. Никогда не забывайте, что самым священным правом является право владеть достаточным количеством земли, которую мы сами будем обрабатывать. Не забывайте никогда, что самой священной является та кровь, которую мы проливаем в борьбе за землю».[xi]
Гитлер планирует завоевательные войны, но при всем отвращении как к большевистскому режиму, так и к западным демократиям, им двигают не политические мотивы, а сугубо меркантильные – поднятые, правда, на уровень высоких духовных ценностей. Вести завоевательную войну одновременно на Западе и на Востоке для Германии невозможно физически. Война возможна только при условии союза либо с Западом против СССР, либо с СССР против Запада. Оба варианта допустимы, если ведут к успеху.
Гитлер обдумывает варианты и высказывается в пользу первого – союз с Западом против СССР – по сугубо практическим соображениям: «С чисто военной точки зрения война Германии-России против Западной Европы (а вернее сказать в данном случае, против всего остального мира) была бы настоящей катастрофой для нас. Ведь вся борьба разыгралась бы не на русской, а на германской территории, причем Германия не могла бы даже рассчитывать на сколько-нибудь серьезную поддержку со стороны России...».[xii]
Россия, по мнению Гитлера, – слабый, плохо вооруженный союзник.«Прибавьте к этому еще тот факт, что между Германией и Россией расположено польское государство, целиком находящееся в руках Франции. В случае войны Германии-России против Западной Европы, Россия раньше, чем отправить хоть одного солдата на немецкий фронт, должна была бы выдержать победоносную борьбу с Польшей. В такой войне дело вообще было бы не столько в солдатах, сколько в техническом вооружении». [xiii]
Военный союз с СССР грозит Германии, по мнению Гитлера, повторением первой мировой войны. Не менее опасен и союз с Россией, не преследующий немедленных военных целей: «Обыкновенно на это возражают, что Союз с Россией вовсе не должен еще означать немедленной войны, или что к такой войне мы можем предварительно как следует подготовиться. Нет, это не так! Союз, который не ставит себе целью войну, бессмыслен и бесполезен. Союзы создаются только в целях борьбы... Одно из двух: либо германско-русская коалиция осталась бы только на бумаге, а тем самым потеряла бы для нас всякую ценность и значение; либо такой союз перестал бы быть только бумажкой и был бы реализован, и тогда весь остальной мир неизбежно увидел бы в этом предостережение для себя. Совершенно наивно думать, будто Англия и Франция в таком случае стали бы спокойно ждать, скажем, десяток лет, пока немецко-русский союз сделает все необходимые технические приготовления для войны. Нет, в этом случае гроза разразилась бы над Германией с невероятной быстротой».[xiv]
И еще один, второстепенный, но важный аргумент: «Современные владыки России совершенно не помышляют о заключении честного союза с Германией, а тем более о его выполнении, если бы они его заключили».[xv]
Гитлер делает вывод – договор с Россией против Запада бессмыслен и опасен, а «действительно полезным и открывающим нам крупные перспективы союзом был бы только союз с Англией и Италией».[xvi] Такой союз Германии выгоден: «Я признаюсь открыто, что уже в довоенное время считал, что Германия поступила бы гораздо более правильно, если бы отказавшись от бессмысленной колониальной политики, от создания военного флота и усиления своей мировой торговли, она вступила бы в союз с Англией против России».[xvii]
Итак, попытки завоеваний на Западе бесперспективны из-за отсутствия сильного союзника, а путь на Восток открыт, так как потенциальный сильный союзник на западе имеется, а Россия слаба.
Резюме: «Мы хотим приостановить вечное германское стремление на юг и запад Европы и определенно указываем пальцем в сторону территорий, расположенных на востоке. Мы окончательно рвем с колониальной и торговой политикой довоенного времени и сознательно переходим к политике завоевания новых земель в Европе. Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду в первую очередь только Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены».[xviii]
Если учитывать только последнюю фразу, то да, советские историки правы, Гитлер сам предсказал свое нападение на Россию. Если же знать весь комплекс рассуждений Гитлера, то получается, что ничего подобного он не предсказывал. В «Майн Кампф» он обосновывал необходимость союза с сильной стороной против слабой. Выбор союзника определялся не политическими или национальными симпатиями, а его, союзника, военными возможностями.
Нападение на сильную Россию не только без поддержки Запада, но и в состоянии войны с ним, с точки зрения Гитлера времен «Майн Кампф» – безумие. И история подтвердила правильность этой оценки. Тогда, что же могло заставить его пойти на этот шаг, кроме отчаяния?
Стоит иметь в виду, что начал Гитлер Вторую мировую войну в полном соответствии со своими рассуждениями времен «Майн Кампф» – он заключил союз с сильной стороной. Поменялась только расстановка сил. Советский Союз из слабой страны без единого собственного грузовика превратился в мощную военную силу, в страну с нищим и полностью бесправным населением, но вооруженную до зубов.
А Запад вовсе не проявлял желания поддерживать Германию в ее стремлении на Восток. Союз с Западом против России оказался невозможен, зато союз с Россией против Запада стал соблазнительной реальностью. Пакт «Молотов-Риббентроп», заключенный в 1939 г., был прямой реализацией теоретических разработок Гитлера пятнадцатилетней давности. Это был союз, который вел к немедленной победоносной войне за завоевание жизненного пространства. Тем более, что вопрос с Польшей был быстро решен к обоюдному удовлетворению сторон.
Эффект этого союза превзошел все, о чем Гитлер мог мечтать в 1924 г. Летом 1940 г. он был хозяином большей части Европы. Франция разгромлена и захвачена, часть европейских стран оккупирована, часть – надежные союзники-саттелиты. Жизненного пространства для освоения его германской нацией – выше крыши.
На западе – еще сопротивляющаяся, но блокированная и изолированная от континента Англия.
А на востоке – Сталин...
Обычно, когда рассуждают о причинах Второй мировой войны, все крутится вокруг намерений Гитлера. Намерения и политика его партнера Сталина остаются в тени, как будто действия СССР были только механической реакцией на действия и планы Гитлера. Предложил Гитлер заключить пакт – заключили. Предложил поделить Польшу и Прибалтику – поделили. А дальше?
У Сталина был, однако, свой взгляд на развитие событий в Европе. Очень похожий на гитлеровский. Только, в отличие от Гитлера, Сталин не публиковал свои тайные замыслы миллионными тиражами. Он обманул Гитлера, втянул его в войну в Европе, но совершил серьезную политическую ошибку, стоившую ему всей кадровой Красной Армии, погибшей летом 1941 г.
Сумев скрыть весной 1941 г. действительный масштаб советских военных приготовлений, Сталин не сумел скрыть летом-осенью 1940 г. масштаб и направление своей стратегии. Он спугнул Гитлера и спровоцировал того на нападение.
***
Считается, что Германия напала на СССР без объявления войны. Это неправда. Около трех часов ночи 22 июня министр иностранных дел Рейха Риббентроп вызвал к себе советского посла Деканозова и зачитал ноту, фактически являвшуюся объявлением войны. Наутро ту же ноту германский посол фон Шулленбург передал в Москве Молотову. В советской историографии об этом документе никогда не было ни слова. Что выглядело странным. Казалось бы, агрессия есть агрессия и факт официального объявления войны, за час до нападения ничего принципиально не меняет.
Стоит, однако, пролистать текст ноты, изданный в Берлине в 1941 году на всех европейских языках, включая русский, как сразу становиться понятно в чем дело. К советскому читателю этот документ ни в коем случае не должен был попасть. В нем открыто шла речь о тайном протоколе к пакту Молотова-Риббентропа 1939 года и его последствиях. Существование этого протокола, в котором говорилось о разделе сфер влияния между СССР и Германией, отрицалось Советским Союзом до 1989 года. Потом признались. Но и после перестройки, вплоть до нынешнего времени, содержание «Ноты Министерства иностранных дел Германии Советскому правительству» плохо вписывается в официальную российскую историографию.
Собственно говоря, вместе были изданы несколько документов: «Воззвание Фюрера к германскому народу» и «Нота Министерства иностранных дел Германии Советскому правительству» с приложениями», которые включали в себя «Доклад Министерства иностранных дел Германии о пропаганде и политической агитации Советского правительства» и «Доклад Верховного командования германской армии Германскому правительству о сосредоточении советских войск против Германии».
В «Воззвании» Гитлер патетическим, понятным народу языком объяснял то, что официально было изложено в ноте, а в приложениях была собрана подробная информация о враждебной деятельности СССР по отношению к Германии и военных инцидентах на совместной границе. Все дальнейшие цитаты взяты из этого, опубликованного в 1941 г., текста. Нота характерна тем, что очень напоминает советские декларации после 22 июня. Типичная тоталитарная пропаганда. То есть все,что говорится о поведении врага – практически чистая правда, а то, что говорится о собственных планах и намерениях – такая же чистая ложь. В ноте перечисляются все претензии Германии к СССР, накопившиеся между августом 1939 г и июнем 1941 г. Причиной нападения Германии на СССР, согласно авторам ноты, являлось нарушение СССР дружественного пакта с Германией. Суть пакта сводилась к разграничению сфер влияния «путем отказа Германии от какого либо влияния на Финляндию, Латвию, Эстонию, Литву и Бессарабию, в то время как области прежнего польского государства вплоть до черты Нарев–Буг–Сан должны были быть присоединены – по ее желанию – к Советской России».
Москве инкриминировалась «интенсивная разлагающая работа в областях, оккупированных Германией... а также в Норвегии, Голландии и Бельгии» и шпионаж. При этом репатриация немцев на территорию Рейха из оккупированных областей Польши и Прибалтики использовалась для того, чтобы принуждать репатриантов к шпионажу. У немцев было достаточно доказательств того, что в Москве на Германию смотрят, как на «завтрашнего сильного врага». Цитируется документ, найденный в советском полпредстве при занятии немцами Белграда: «СССР будет реагировать лишь в надлежайший момент. Державы оси еще дальше разбросали свои военные силы, и поэтому СССР внезапно ударит на Германию».
Интересная деталь. Согласно ноте, при заключении пакта 1939 года советское правительство заявило, что оно «за исключением находившихся в состоянии разложения областей бывшего польского государства, не имеет намерения ни оккупировать государства, находящиеся в сфере его интересов, ни большевизировать, ни присоединять их». Поэтому, захват балтийских стран и война с Финляндией были расценены Германией как нарушения договоренностей.
При заключении первого договора в августе 1939 г. Литва оставалась за Германией, но потом была уступлена ею СССР «скрепя сердце и ради сохранения мира». Но после 15 июня 1940 г.вся Литва, включая кусочек, остававшийся в сфере влияния Германии, была без предупреждения захвачена СССР.
Советские притязания на Бессарабию и Сев. Буковину в 1940 г. тоже оказались неожиданностью для немцев, причем на размышление они получили всего 24 часа. Как сказано в ноте: «Несмотря на то, что советское правительство при московских переговорах заявило, что оно со своей стороны никогда не проявит инициативу для разрешения бессарабского вопроса, германское правительство 24 июня получило от советского правительства сообщение, что оно решилось силой решить бессарабский вопрос. Одновременно сообщалось, что советские требования простираются также и на Буковину, т.е. на область, которая принадлежала прежней Австрийской Короне, никогда не принадлежала России, и о которой в Москве в свое время вообще даже не говорилось».
Германия «ради сохранения мира и дружбы» посоветовала Румынии уступить эти территории СССР. «Эти области были также немедленно присоединены к Советскому Союзу, подверглись большевизации и были тем самым фактически разорены». И далее: «Оккупацией и большевизацией всей сферы интересов, предоставленной германским правительством в Москве Советскому Союзу, советское правительство ясно и недвусмысленно действовало в противоречии с московскими соглашениями».
После инцидента с захватом Бессарабии и Сев. Буковины у Германии не было больше сомнений, что СССР проводит враждебную ей политику. Явное подтверждение этому авторы ноты видят в найденном в Белграде докладе югославского военного атташе в Москве от 17 декабря 1940 г., в котором говорилось: «По заявлениям из советских кругов, вооружение воздушного флота, танков и артиллерии на основании опыта настоящей войны находится в полном ходу и будет в основном закончено до августа 1941 года. Это по всей вероятности крайний срок, до которого нельзя ожидать крупных перемен в советской внешней политике».
Для устранения недоразумений в августе 1940 г. в Берлин прибывает Молотов и предъявляет новые территориальные требования, перечисленные в ноте:
«1. Советский Союз желает дать Болгарии гарантии и сверх того заключить с этим государством пакт о взаимопомощи по образцу пактов, заключенных в балтийских краях, т. е. также с образованием военных опорных пунктов...
2. Советский Союз требует заключения соглашения с Турцией с целью создания баз для сухопутных и морских военных сил СССР у Босфора и Дарданелл на основе долгосрочного пакта. В случае, если бы Турция не заявила о своем согласии на это, Германия и Италия должны присоединиться к советским дипломатическим мерам для осуществления этого требования...
3. Советский Союз снова заявляет, что чувствует себя под угрозой со стороны Финляндии и поэтому требует полного предоставления ему Финляндии со стороны Германии, что на деле означало бы оккупацию этого государства и гибель финского народа».
По всем этим пунктам, «являвшимся предпосылкой советского правительства для присоединения к Пакту Трех Держав», Молотову было отказано.
Далее в ноте перечисляются другие примеры враждебного отношения СССР к Германии в политической и военной сфере – поддержка путча в Югославии, настраивание Турции и Румынии против Германии, и, наконец, сосредоточение против Германии на западных границах «не менее 160 дивизий (!- Д.Х.)».
Заканчивается Нота так:
«Вопреки всем взятым на себя обязательства и в грубом противоречии своим торжественным заявлениям, советское правительство заняло позицию против Германии. Оно не только продолжало свои направленные против Германии и Европы попытки разложения, но еще усилило их с началом войны; оно во все усиливавшейся степени с враждебностью направляло свою политику против Германии и сосредоточило все свои военные силы у германской границы с готовностью быстрого нападения.
Тем самым советское правительство изменило своим договорам и соглашениям с Германией и нарушило их... Поэтому Фюрер теперь дал приказ германской армии выступить против этой угрозы со всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. Германский народ сознает, что в предстоящей борьбе он выступает не только на защиту родины, но что он также призван спасти весь культурный мир от смертельной опасности большевизма и проложить путь к истинному социальному возрождению Европы».
Разумеется, фюрер врет по поводу собственных целей. Риторика Гитлера насчет спасения культурного мира от большевизма была такой же подставой, как и соответствующие декларации Сталина о спасении мира от фашистской угрозы. От себя ни тот, ни другой мир спасать не собирались. Но цели и политика Сталина обрисованы в этом документе достаточно верно.
Весной 1941 года Германии следовало весьма серьезно опасаться за свою безопасность. И уж никак не стоило полагаться на обещания Сталина соблюдать договоренности с Гитлером. При всем желании Гитлера рано или поздно расправиться с Советским Союзом, время для расширения«немецкого жизненного пространства» на Восток, если допустить, что именно этим он намерен был заниматься, было выбрано крайне неудачно. Европа захвачена, но не замирена и не освоена. Англия заблокирована на острове, но перспективы победы над ней весьма проблематичны. Зато на горизонте светится очень реальная перспектива войны с Америкой. А на востоке нависает Сталин, откровенно плюющий на любые соглашения и сосредоточивший на границе 5-миллионную армию в последней стадии готовности к нападению. В этих условиях начало войны на два фронта было отчаянной, и как показал опыт, безнадежной попыткой Гитлера переломить ситуацию.
Вообще-то, нарушение Советским Союзом откровенно преступного договора с Германией 1939 г. можно было бы только приветствовать, если бы целью было предотвращение войны в союзе с Западом. Увы, цели Сталина были диаметрально противоположными.
Итак, нападение вермахта летом 1941 г. было изначально превентивным в стратегическом смысле. Оно предупреждало очевидное и неминуемое нападение Сталина в ближайшем и вполне обозримом будущем. Но превентивным в краткосрочном, тактическом смысле, оно стало де факто, неожиданно для немецкого руководства, обнаружившего только задним числом какой опасности им удалось в тот момент избежать (подчеркнуто мной - М.С. ) Впрочем, эта удача не помогла Германии в конечном счете выиграть войну.
Тактическая ошибка Сталина в расчетах сроков нападения оказалась исторически преодолимой, стратегическая ошибка Гитлера в выборе союзника – фатальной.
[i] Сталин и Каганович. Переписка. 1931-1936 гг..– Москва, 2001, с. 545
[ii]Новыймир, №12, 1994.
[iii] См. В. Дорошенко, И. Павлова, Р. Раак. Не миф: речь Сталина 19 августа 1939 года, в: «Правда Виктора Суворова. Переписывая историю Второй мировой», Москва, 2006.
[iv] Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Teil 1, Band 9, München 1998, S. 377-379.
[v]Там же, с. 359.
[vi]Там же, с. 371.
[vii] См.: Олег Кен. Мобилизационное планирование и политические решения. Конец 1920 – середина 1930-х. Санкт-Петербург 2002.
[viii] John Skott, „Jenseits von Ural“, Stockholm 1944, 1944, S.12.
[ix] Rudolf Wolters, «Spezialist in Sibirien», Berlin 1933.
[x] Цит. По: Александр Гогун: «Черный пиар Адольфа Гитлера». – Москва, 2004, с. 61
[xi] Там же, с.71ю
[xii] Там же, 64.
[xiii] Там же.
[xiv] Там же.
[xv] Там же, с.66
[xvi] Там же, с. 71.
[xvii] Там же, с.69.
[xviii] Там же, с.61.
Источник: Статья опубликована в сборнике "Великая Отечественная катастрофа", М., Яуза-ЭКСМО, 2007 г.
 Лауреат Нобелевской премии по литературе Томас Манн эмигрировал из нацистской Германии в 1933 году. Это письмо — его ответ на многочисленные предложения вернуться, которые поступали писателю после окончания Второй мировой войны.
Лауреат Нобелевской премии по литературе Томас Манн эмигрировал из нацистской Германии в 1933 году. Это письмо — его ответ на многочисленные предложения вернуться, которые поступали писателю после окончания Второй мировой войны.  В сейфе одной пожилой дамы, живущей в Южной Африке, хранится камушек сардоникс, который она готова уступить Государству Израиль за 225 миллионов долларов. Сумма баснословная, но в Израиле все равно раздумывают – камень может быть из Иерусалимского Храма.
В сейфе одной пожилой дамы, живущей в Южной Африке, хранится камушек сардоникс, который она готова уступить Государству Израиль за 225 миллионов долларов. Сумма баснословная, но в Израиле все равно раздумывают – камень может быть из Иерусалимского Храма. В отличие от рядовых священников, совершавших служение в белых льняных одеждах, первосвященник носил еще несколько дополнительных одеяний. Одно из них –
В отличие от рядовых священников, совершавших служение в белых льняных одеждах, первосвященник носил еще несколько дополнительных одеяний. Одно из них – Из предметов, находившихся в Храме, превосходил все по своему значению Ковчег завета. Это был деревянный ящик размером примерно 80 на 80 на 130 сантиметров, покрытый золотом изнутри и снаружи. Сверху он покрывался крышкой из цельного золота с фигурами ангелов. Но главным в нем было, конечно, не золотое покрытие, а его содержимое – скрижали с Десятью заповедями, которые получил Моше на горе Синай. Возможно ли найти его?
Из предметов, находившихся в Храме, превосходил все по своему значению Ковчег завета. Это был деревянный ящик размером примерно 80 на 80 на 130 сантиметров, покрытый золотом изнутри и снаружи. Сверху он покрывался крышкой из цельного золота с фигурами ангелов. Но главным в нем было, конечно, не золотое покрытие, а его содержимое – скрижали с Десятью заповедями, которые получил Моше на горе Синай. Возможно ли найти его? Трудно сказать, есть ли ядро истины в эфиопских легендах, связывающих прибытие Ковчега в Эфиопию с именем Менелика
Трудно сказать, есть ли ядро истины в эфиопских легендах, связывающих прибытие Ковчега в Эфиопию с именем Менелика 
 Это произошло в 1947 году в еще не оправившейся от последствий Второй мировой войны Вене. Хильда Цадек вспоминает, как она стояла за кулисами и тяжело дышала, готовясь в первый раз выйти на оперную сцену в качестве исполнительницы главной партии. Давали тогда «Аиду» — очень сложную с вокальной точки зрения вещь, а венская публика всегда отличалась особой взыскательностью и была готова освистать любого не понравившегося исполнителя.
Это произошло в 1947 году в еще не оправившейся от последствий Второй мировой войны Вене. Хильда Цадек вспоминает, как она стояла за кулисами и тяжело дышала, готовясь в первый раз выйти на оперную сцену в качестве исполнительницы главной партии. Давали тогда «Аиду» — очень сложную с вокальной точки зрения вещь, а венская публика всегда отличалась особой взыскательностью и была готова освистать любого не понравившегося исполнителя.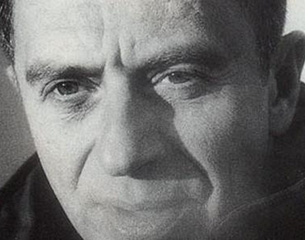 Танцы с Андреем Мироновым, ночи с Вознесенским, Ахмадулиной и Брик, дружба с Высоцким – в своих фильмах режиссер Иван Дыховичный снимал только то, что нравилось ему и его близким. Возможно, поэтому его фильмы вызывали непонимание у большинства зрителей. Вдохновленный Тарковским, он снимал не спеша, никогда не повторяя ни других, ни самого себя.
Танцы с Андреем Мироновым, ночи с Вознесенским, Ахмадулиной и Брик, дружба с Высоцким – в своих фильмах режиссер Иван Дыховичный снимал только то, что нравилось ему и его близким. Возможно, поэтому его фильмы вызывали непонимание у большинства зрителей. Вдохновленный Тарковским, он снимал не спеша, никогда не повторяя ни других, ни самого себя. Родился он 16 октября 1947 года в семье Владимира Абрамовича и Александры Иосифовны Дыховичных. Отец был известным драматургом и поэтом-песенником, творческий союз которого с Морисом Слободским вызывал неизменный восторг публики. Несмотря на отсутствие его фамилии в титрах популярного фильма Гайдая «Бриллиантовая рука», по утверждению Ивана Дыховичного, сценарий разрабатывался в том числе и его отцом. Что касается матери, то Александра Иосифовна была балериной и танцевала на сцене музыкального Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. «У мамы не сложилась карьера в театре, потому что она отказалась сотрудничать с органами в те страшные годы. И ее уволили из театра, несмотря на то, что она была замечательной солисткой», – вспоминал Дыховичный.
Родился он 16 октября 1947 года в семье Владимира Абрамовича и Александры Иосифовны Дыховичных. Отец был известным драматургом и поэтом-песенником, творческий союз которого с Морисом Слободским вызывал неизменный восторг публики. Несмотря на отсутствие его фамилии в титрах популярного фильма Гайдая «Бриллиантовая рука», по утверждению Ивана Дыховичного, сценарий разрабатывался в том числе и его отцом. Что касается матери, то Александра Иосифовна была балериной и танцевала на сцене музыкального Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. «У мамы не сложилась карьера в театре, потому что она отказалась сотрудничать с органами в те страшные годы. И ее уволили из театра, несмотря на то, что она была замечательной солисткой», – вспоминал Дыховичный. Но бокс был отнюдь не единственным увлечением Ивана в юности, он вообще рос разносторонним человеком, а с возрастом круг интересов только расширялся. В зрелом возрасте он так и вообще сел за штурвал самолета. К 12 годам он освоил танцы в стиле рок-н-ролл. Причем учителем его был 18-летний Андрей Миронов, живший в том же дачном поселке писателей Пахра и испытывавший взаимную симпатию к сестре Дыховичного Галине. Что касается влюбленности самого Ивана, то чувство это было испытано им в девятилетнем возрасте: «Я влюбился в девочку Софу из балетного училища. Она пригласила меня на день рождения. Дело было зимой, в лютый мороз, а у меня из обуви были только ужасные школьные ботинки и очень красивые сандалии, которые мне родители привезли из Швеции. И я пошел на день рождения в сандалиях. Околел, конечно. Софа потом не стала балериной, пополнела и стала женой Петросяна». Бокс и влюбленные вздохи плохо сказывались на учебе. Более того, Иван сам всеми силами пытался убрать с себя «ярлык мальчика из интеллигентной семьи», а потому делал все, чтобы его школьный дневник полнился возмущенными записями педагогов, либо повествующими о сломанном носе какого-нибудь старшеклассника, либо призывающими родителей явиться в школу.
Но бокс был отнюдь не единственным увлечением Ивана в юности, он вообще рос разносторонним человеком, а с возрастом круг интересов только расширялся. В зрелом возрасте он так и вообще сел за штурвал самолета. К 12 годам он освоил танцы в стиле рок-н-ролл. Причем учителем его был 18-летний Андрей Миронов, живший в том же дачном поселке писателей Пахра и испытывавший взаимную симпатию к сестре Дыховичного Галине. Что касается влюбленности самого Ивана, то чувство это было испытано им в девятилетнем возрасте: «Я влюбился в девочку Софу из балетного училища. Она пригласила меня на день рождения. Дело было зимой, в лютый мороз, а у меня из обуви были только ужасные школьные ботинки и очень красивые сандалии, которые мне родители привезли из Швеции. И я пошел на день рождения в сандалиях. Околел, конечно. Софа потом не стала балериной, пополнела и стала женой Петросяна». Бокс и влюбленные вздохи плохо сказывались на учебе. Более того, Иван сам всеми силами пытался убрать с себя «ярлык мальчика из интеллигентной семьи», а потому делал все, чтобы его школьный дневник полнился возмущенными записями педагогов, либо повествующими о сломанном носе какого-нибудь старшеклассника, либо призывающими родителей явиться в школу. Не менее увлекательно проходили и вечера в мастерской Никиты Антоновича Лавинского, отцом которого, как утверждается, был Владимир Маяковский. Там часто собирались многие интересные люди, к словам и суждениям которых прислушивался Дыховичный: Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Лиля Брик и многие другие известные люди, которые, по словам Дыховичного, «терпеть не могли никаких советских авторитетов»: «Для них абсолютным авторитетом было то, что висело на стенах – репродукции Леонардо да Винчи, Рафаэля, Кранаха. Там выпивали, но культурно, не до беспамятства. И споры, которые возникали там между людьми разных поколений, были одним из самых интересных занятий в нашей жизни». Вполне возможно, что именно эти споры, в которых Дыховичный, конечно же, участия не принимал, а лишь слушал, и легли в основу его мировоззрения. По крайней мере, уже тогда, в Щукинском училище, в отчетных спектаклях и выступлениях он играл отрывки Булгакова, выбирал для чтения Бунина, Мандельштама и Тарковского, в общем, выбирал совсем не тех, кого рекомендовали преподаватели. И именно тогда появился жизненный девиз Ивана Дыховичного, которому он будет следовать всегда: «Если можешь, не нагибайся, ищи свое и красивое – дом, дерево, улицу, женщину, что угодно».
Не менее увлекательно проходили и вечера в мастерской Никиты Антоновича Лавинского, отцом которого, как утверждается, был Владимир Маяковский. Там часто собирались многие интересные люди, к словам и суждениям которых прислушивался Дыховичный: Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Лиля Брик и многие другие известные люди, которые, по словам Дыховичного, «терпеть не могли никаких советских авторитетов»: «Для них абсолютным авторитетом было то, что висело на стенах – репродукции Леонардо да Винчи, Рафаэля, Кранаха. Там выпивали, но культурно, не до беспамятства. И споры, которые возникали там между людьми разных поколений, были одним из самых интересных занятий в нашей жизни». Вполне возможно, что именно эти споры, в которых Дыховичный, конечно же, участия не принимал, а лишь слушал, и легли в основу его мировоззрения. По крайней мере, уже тогда, в Щукинском училище, в отчетных спектаклях и выступлениях он играл отрывки Булгакова, выбирал для чтения Бунина, Мандельштама и Тарковского, в общем, выбирал совсем не тех, кого рекомендовали преподаватели. И именно тогда появился жизненный девиз Ивана Дыховичного, которому он будет следовать всегда: «Если можешь, не нагибайся, ищи свое и красивое – дом, дерево, улицу, женщину, что угодно». Началась же дружба, говорят, с того, что Высоцкий услышал исполняемые Дыховичным романсы на стихи любимых им поэтов Дениса Давыдова, Бориса Пастернака и Осипа Мандельштама и просто не смог пройти мимо. Дыховичный не раз сопровождал великого барда в поездках по стране, а иногда и выступал с романсами в совместных концертах. За десять лет, проведенных в Театре на Таганке, он сыграл Розенкранца в «Гамлете», Керенского в «Десяти днях, которые потрясли мир», Коровьева в «Мастере и Маргарите», Пушкина в спектакле «Товарищ, верь…».
Началась же дружба, говорят, с того, что Высоцкий услышал исполняемые Дыховичным романсы на стихи любимых им поэтов Дениса Давыдова, Бориса Пастернака и Осипа Мандельштама и просто не смог пройти мимо. Дыховичный не раз сопровождал великого барда в поездках по стране, а иногда и выступал с романсами в совместных концертах. За десять лет, проведенных в Театре на Таганке, он сыграл Розенкранца в «Гамлете», Керенского в «Десяти днях, которые потрясли мир», Коровьева в «Мастере и Маргарите», Пушкина в спектакле «Товарищ, верь…».