ГЛОТОК СВОБОДЫ, или ЗАКАТ РУССКОЙ ДЕМОКРАТИИ
Исторический докуроман в семейном интерьере на четыре голоса
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
Продолжение. Начало в предыдущих выпусках.
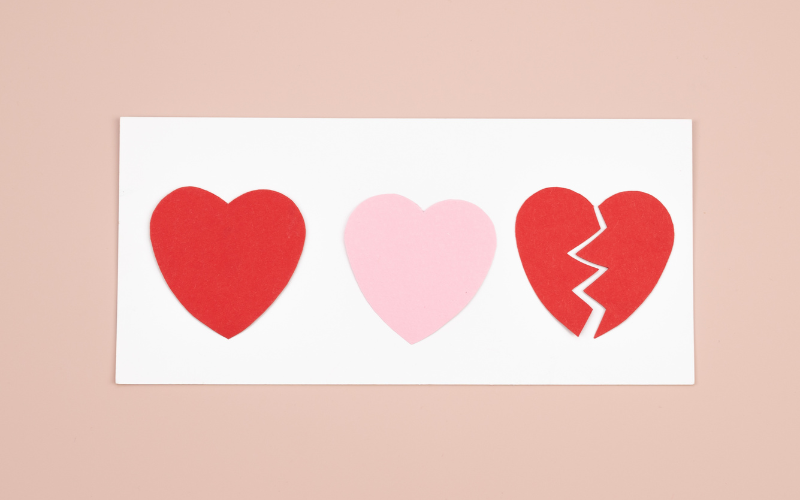
Photo copyright: Canva.com
4.
Боюсь, Катя, с ее подростковым эгоцентризмом, решила, что это я из-за нее переехал к ним на Таганку, когда меня попросили из гостиницы. В ее девичьем воображении у нас с ней уже был роман, тем более мы действительно однажды с ней тайно от Волкова встретились, но все это носило вполне невинный характер. Мысли мои были заняты другим.
– Другого там у нас выхода не было. Разве что травка, но я консерватор, предпочитаю горлодер. Одного стакана достаточно, чтобы выпрямить нервные окончания.
– А у тебя есть нервы? – спросил я, вовсе не думая его задеть, но он тут же полез в бутылку:
– Ах, да! Я же забыл: у вас прерогатива и на нервы тоже!
До рукоприкладства у нас с ним не дошло, но Волков обрушил на меня оскорбления одно почище другого. Катя, помню, ему бросила:
– Волков, зря стараешься! Смотри – с него как с гуся вода. Он даже не обижается! Твой одноклассник – тефлоновый.
Похоже, Катя и в самом деле была удивлена моей безответностью, хотя значения слова «тефлоновый» я не знал, смутно догадываясь о его американском происхождении. Катин новояз загонял меня иногда в тупик.
– В святые готовишься? – кричал на меня пьяный Волков, все глубже вкручиваясь в штопор ссоры. – Иисусом заделался? Лучше всех на свете? А у самого рыльце в пуху, мне ли не знать! Ну, дай, дай мне по морде – и будем квиты, черт побери! Чистоплюй! Шибздик! Буржуйчик! Вегетарианец чертов! Тоже мне Франциск Ассизский! Отмазался удрав, а так бы ссучился, как все мы.
Каково было Кате все это слушать? Вот кто по-настоящему растерялся – не я, а Катя. Но вступать в спор с пьяным, который на моих глазах уговорил две бутылки, или объяснять его дочери-подростку свою точку зрения было неуместно. И бессмысленно. Мне не удалось ее объяснить даже в более подходящих обстоятельствах куда более близкому мне человеку, из-за чего, собственно, все и случилось. Но Лена, помню, бросила мне тогда то же самое слово, хотя нет – другое: не чистоплюй, а чистюля. Все эти шестнадцать лет я думал об этой последней нашей встрече. Постепенно у меня скопилось такое множество ответов и объяснений, что я мог бы переплести их в солидный том, если б стал записывать. Но как раз тогда я не сказал ничего из того, что сказать было просто необходимо. Я из тугодумов – это потом мне приходят остроумные или убедительные, но, увы, лестничные реплики. Может быть, именно потому так болтлив на бумаге, что молчалив на людях.
– А что, по протоколу положено обижаться? – спросил я Катю. – У вас здесь теперь такой обязательный церемониал?
Да, я не знал, позабыл правила поведения в подобных случаях – как себя вести, когда тебя оскорбляют. Сказать по правде, я даже растерялся от такого внезапного со стороны Волкова наскока. Ну, ладно – на урода я бы мог ему ответить, что он с годами тоже не стал красавцем и на его лице появилась какая-то порча, но что мне сказать на жидяру, когда я и есть жидяра – было дело, стыдился, но никогда не отрицал? К тому ж, есть разница между личным оскорблением и родовым, не говоря уж о том, что это меня впервые жидом обзывают – у меня нет никакого опыта в такого рода перепалках.
Да я и не был уверен, что Волков антисемит на самом деле. Мне всегда казалось, что антисемитизм – часть общей говнистости человека, а говно в тот вечер поднялось у Волкова из-под глыб и вышло наружу. А в чем выражается моя говнистость, когда выходит наружу? В любом случае – не в русофобии. Зря, значит, Волков отмежевывался от «Памяти», когда, приведя на их собрание, предупредил не судить по карикатуре об оригинале. А что если карикатура не утрирует черты оригинала, но выявляет его сущность? Чем Волков, к примеру, отличается в этом вопросе от Бороды?
Я подозревал, что как раз волковский антисемитизм был персонального свойства и направлен лично на меня. Так ему и сказал:
– Меня ты ненавидишь – это понятно. Положим даже за дело. Но зачем к нашим с тобой личным отношениям целый народ приплетать?
– Все одинаковы, – сказал Волков и пьяно махнул рукой. – Легко живете. Люди воздуха. Попрыгунчики! Паразитируете на язвах чужих культур – вот форма вашего существования, Ницше прав.
– Да что б вы без евреев делали? – занял я, обороняясь, чуждую мне позицию. – Дикари, скифы, огнепоклонники. Ни Бога, ни Библии, ни социализма, ни капитализма, ни теории относительности, ни психоанализа, который у нас давно из моды вышел, а вы только-только дорвались! Повальное увлечение Фрейдом!
– Да я б в его сторону даже не пернул!
Господи, при чем здесь Фрейд? Куда нас занесло?
Лично для меня жид ничуть не обиднее урода, тем более, совпадает с моей самооценкой: да, я жид, да, я урод. Я мог бы добавить еще с дюжину эпитетов, но боюсь, от такого самоотрицания разит кокетством. Любопытно, что Катя на жидяру внимания не обратила – для нее это само собой разумеется:
– А почему урод? – удивилась она.
Ага, Волков, попался! Ну-ка, объясни собственной дочери – что ты имел в виду под уродом! Пусть не красавец, но и не урод, и я послал Кате через стол воздушный поцелуй в благодарность за моральную поддержку.
К тому времени, однако, Волков был уже пьян в дымину, чтоб пускаться в объяснения, да мне они и не нужны, я и так догадывался что к чему, а чтобы объяснить Кате, надо было завести ее в такие дебри, откуда, не уверен, нашла ли бы она дорогу назад. Мы до сих пор в них блуждаем.
Не для ее девичьих ушей, таких же маленьких, как у Лены.
Катя сама почувствовала себя третьей лишней и отправилась спать, попросив нас соблюдать правила общежития – ей завтра с утра в школу. О том, что она еще школьница, я как-то стал забывать – настолько на равных она с нами.
Как и у Кати, у меня было ощущение, что от меня что-то скрывали и продолжают скрывать. Я знал Лену, и для меня было непостижимо, как она могла так молниеносно выскочить за Волкова? Этого не могло произойти без предварительной подготовки. Столько лет прошло, а чудище с зелеными глазами мучило меня, как будто все случилось только вчера. Когда они успели снюхаться? У меня тоже были причины для ненависти, но я же не обзывал Волкова гоем, кацапом или русской свиньей, не переводил наши давние страсти из индивидуального плана в племенной. Так и сказал Волкову, что он облегчает себе задачу, но не уверен, что до него дошло. Именно потому, что я знал Лену, для меня непостижима была их скоропалительная случка после моего отвала, как и предполагаемая связь до. О ужас – одновременно со мной? Сексуальный плюрализм, групповуха, дифаллусизм! А это словечко уже – забегая вперед – из новоречи продвинутой в половых вопросах Кати. Но еще кромешней, если до меня. В любом из вариантов это была совсем другая Лена, чем та, которую я знал. Вот что меня мучило все эти годы и набросилось на меня со страшнй силой, как только я вернулся в Москву.
До меня не сразу дошло, почему он бросил мне урода. Вряд ли это было объективной оценкой, хоть я и не заблуждаюсь на свой счет, а потому редко гляжу в зеркало либо на собственные фотки. Что такое оскорбление? Восклицательный эпитет, нисходящая метафора, словесная эссенция. Чтобы понять оскорбление, его надо расшифровать в развернутое предложение, абзац, страницу, главу. Словесный выстрел, который кончает с врагом раз и навсегда. Только недостатком воображения и бедностью словаря можно объяснить то, что люди прибегают к холодному или огнестрельному оружию для выяснения отношений.
На самом деле, будучи жидом, я не был ни уродом, ни красавцем. Я не был уродом даже в сравнении с Волковым, хотя, конечно, ростом, статью, мускулатурой, спортивностью и прочими физическими данными он превосходил меня. Но он имел в виду нечто совсем иное, и это иное было для меня потрясающей новостью: он, которому досталась в конце концов моя Лена, хоть он и упустил ее, как и я; он, к которому я так отчаянно ревновал, воспринимая как двойное предательство их скоропостижную женитьбу после моего отвала – выходит, он с не меньшей силой ревновал Лену ко мне, а потому и удивлялся, каким образом она досталась мне, жиду и уроду, а не ему.
Лена – единственное, что нас теперь с Волковым связывало. Естественное, со школы, соперничество, преодоленное или скрытое дружбой. Я выиграл у него Лену, но, может, мне так только показалось? Потом он взял реванш, женившись на ней. А теперь, выходит, я беру реванш, флиртуя с их дочкой? Реванш – у кого из них? У обоих? А Катя – в курсе всех наших перипетий? Вряд ли всех. При чем здесь Катя – в нашем классическом треугольнике она явно лишняя. Мы оба были выбраны Леной и оба отвергнуты, не все ли равно теперь, в какой очередности, пусть даже в одновременности!
Нет, не все равно, черт побери! В этом вся загвоздка, что не все равно! Мы оба ревновали к ее первому выбору, к первой любви, к первой ночи.
Катя ушла, Волков отключился и спал, положив голову на стол. Я решил, что и мне пора, и встал, чтоб пойти в мою комнату, в которой когда-то жила Лена. Но Волков схватил меня за руку:
– Посиди немного.
Он был трезв, как стеклышко. У меня мелькнуло даже подозрение, что он нарочно притворился пьяным, чтоб дать себе волю. Для таких, как он, вынужденно сдержанных людей, хмель – пропуск во вседозволенность.
Что он может сказать мне, чего бы я сам не знал?
Я бы мог, конечно, прямо спросить у него, когда у них с Леной началось, но прáва на этот вопрос у меня не было.
Это я должен узнать у самой Лены, хоть у меня и не хватит мужества, знал заранее.
Столько лет минуло с тех пор, а я все еще на том же уровне знания, что и был тогда. Блуждаю в потемках. Стиль ретро – я прикипел к прошлому. Как нынче говорят? Ретруха. Неужели мне суждено умереть, так ничего и не узнав?
Я начал издалека:
– Я даже не подозревал, что ты был влюблен в Лену…
– Легко было догадаться, когда полкласса в нее втюрилось. Даже Килограммчик, несмотря на свои голубые загибоны. Я не больше других. Скорее подчиняясь моде. С ума, как ты, не сходил.
– А по кому ты с ума сходил? У тебя пониженная пассионарность!
– Все лучше, чем быть на поводу у красноголового!
– Ты забыл, что был моим доверенным лицом? Я все тебе рассказывал!
– Не все так болтливы, как ты!
– Благодаря моей болтливости ты и втрескался в Лену. Любовь заразна. Тебе всегда нужен был пример для подражания. Недаром мамаша в последний год перевела тебя в другую школу – чтоб я на тебя не влиял.
– Врешь, это я тебя с ней свел, – усмехнувшись, объяснил Волков. – Помнишь, на переменке?
Еще б не помнить! Она была дежурной и сторожила какую-то дверь, в которую можно было входить и нельзя было выходить, или наоборот, без разницы, мы учились в параллельных классах, Волков в одном с Леной, но потом нас объединили ввиду малочисленности – и началась моя мука, которая длится до сих пор и которой зло пользуется сейчас Волков.
– Не забывай, что мы говорим о прошлом, – напомнил он.
– Это ты забываешь.
– Ты был настойчивее остальных. Наглее и самоувереннее. Потому я и сказал жидяра – для вас не существует препятствий.
– Дурак! Я ее любил больше, чем все вы, вместе взятые, а потому был наглее. Только что с моей наглости? Ты же знаешь, она любила тогда Килограммчика.
– О ком мы сейчас – о твоей бывшей возлюбленной или о моей бывшей жене? – сказал мне Волков раздраженно. – Или о теперешней Лене? Ты не путаешь имя с человеком? Ты был у нее? Боишься?
– Чего боюсь?
– Тебе виднее, чего ты боишься! Две недели в Москве, а позвонить ей так и не решился.
Я не стал оправдываться – у меня свои с ней отношения, точнее – никаких, но не его ума дело.
– Той Лены уже нет, – сказал он.
– Это для тебя нет, – огрызнулся я.
Волков посмотрел на меня с ненавистью, но мне было уже по фигу. Не я к нему ревновал, это он ко мне ревновал и ревнует. Я к нему никогда не ревновал. Я не знал имени того, к кому ревновал. Я даже не знал, знаю ли я того, к кому ревновал. Меня бы очень устроило, если б он был мертв. Единственный в мире человек, которого я мог бы убить.
Даже сейчас.
Это противоречит моим вегетарианским принципам?
Вовсе нет!
Есть бы я его не стал. А вегетарианство – это отказ от мясоедства, а не от убийства. Не ешь – еще не значит не убий. Не путать вегетарианство с пацифизмом – отнюдь.
В ту ночь, я был пьян не меньше Волкова. Не так уж много выпил, но накачал себя здорово. А Волков, наоборот, трезвел с каждой следующей рюмкой. Пил он, не переставая. На столе стояли три пустые бутылки «Столичной». Я бы так не смог чисто физически – желудок бы не принял. Еще одно отличие от Волкова, которое он бы отнес за счет моего жидовства.
– А Лена взяла твою фамилию, когда вышла замуж? – спросил я.
– Автоматически. Все было как-то впопыхах, она даже не задумывалась над этим. Мне самому это было как-то странно – Лена Волкова. Какая же она Волкова? Со школы – так въелось, что иначе, чем Леной Платоновой ее и представить немыслимо. Да она и сама никак не могла привыкнуть к «Волковой» и, когда мы развелись, снова стала Платоновой. То есть она переименовалась обратно еще до того, как это вошло в моду у городов. Думаю, что «Лена Шапиро» ей бы тоже не подошло, – усмехнулся Волков.
Господи, да я боготворил ее имя и сменил бы, не глядя, свое «Шапиро» на «Платонова», позволь она мне! Но Волкову я сказал, почувствовав насмешку:
– Если ты думаешь, что «Волков» оригинальнее или благозвучнее «Шапиро», ошибаешься.
– Ты все о своем…
– Это ты все о своем! Начинаешь же ты, а не я. Ты инициатор – и жидом назвал, и фамилию вышучиваешь, и в еврейский ресторан затащил…
– Тоже плохо? Для тебя же старались.
– Если бы для меня лично старались, повели бы в вегетарианский.
– Таких в Москве нет и в ближайшее время не предвидится. Скорее откроются для каннибалов. По стране – триста случаев людоедства в год. Ничего не поделаешь – голод. Почему тогда не отведать человечины? Катя, пожалуй, права. Можно пустить в народ какой-нибудь патриотический лозунг. Чеченское мясо для голодающей России! Что-нибудь в этом роде. Вот бы ваши филантропы открыли для наших каннибалов бесплатные столовые! Народ бы повалил.
– Там таким, как ты, и место. И вся твоя вшивая имперская идеология – тоже для каннибалов.
– Ну, ты сегодня осатанел! Сначала я, а теперь ты. Хорошо хоть, завтра мне на Кавказ.
– Действительно, хорошо, – сказал я, что в устах гостя звучало, наверное, довольно странно, но мне уже было не остановиться. – И дочку с собой прихвати.
На самом деле, я решил завтра же от них съехать. Попал в волчье логово – мотать отсюда, пока цел.
– Зря кипятишься. И зря от своего народа открещиваешься.
– Ну, знаешь, это уж мое личное дело, кем себя считать! Быть или не быть евреем – это мое право, мой выбор.
Я рассердился по-настоящему, что он мне навязывает еврейство.
– Выбор? Я не выбирал родиться русским, как и ты – евреем.
– А если я предпочитаю быть русским? Имею на это не меньшее право, чем ты.
– По-твоему выходит, я могу объявить себя евреем?
Это я виноват, что он свои социальные комплексы перековал в национальные, а теперь кичится своим происхождением. Коммуналка, безденежье, еле концы с концами сводили, мамаша уборщица, все дети от разных отцов и у всех – безотцовщина, а тут я подвернулся в приятели, маменькин сынок, пай-мальчик, жиденок: в школе буржуйчиком дразнили.
– Завидуешь? Махнемся? Слабо?
– Легкости твоей завидую. Летун, а не человек. Взял да за океан, все здесь побросав, а нас оставил расхлебывать. Тоже мне перелетная птица!
– Врешь! Все свое увез с собою!
– А Лена?
– Было предложено, – сказал я как можно тверже, потому что давно уже сомневался. – Когда меня гонят взашей и жалеют, что со мной связались – что мне оставалось?
– Это не моя тайна.
– А чья?
Это не я, это Катя сказала. Она стояла на пороге в цветастом халатике, из которого выросла, и я впервые увидел ее колени и на какое-то мгновение отключился.
– Мы тебя разбудили? – спросил Волков.
– Мертвый и тот бы проснулся. А чья? – повторила Катя.
– Тебя здесь не хватало, – сказал Волков и, покачиваясь, встал. – Ты, что, подслушивала?
– Вы так орете, что хочешь не хочешь, все слышишь. Странно еще, что соседи милицию не вызвали, чтоб вас окоротить.
– Вот здесь бы меня и сцапали за нарушение паспортного режима, – сказал я.
– Будь спок. Главный милиционер здесь я.
– Догадываюсь.
– Вы все это выпили? – и Катя показала на порожние бутылки.
– Главным образом твой папан.
В сидячем положении он чувствовал себя увереннее, а сейчас стоял, пошатываясь и держась за стол.
– Ну, и мальчишник вы здесь развели, – сказала Катя, позевывая. – Точнее матюгальник. Вы хоть знаете, который час?
Я глянул на свои «командирские», купленные два дня тому на Арбате: половина пятого.
– Пора, – и я встал, чтобы отправиться в комнату Лены, в которой она не жила, наверное, уже лет десять, но все равно должно там хоть что-то от нее сохраниться. Я не о вещах, но о духе, который не так просто выветривается.
– Нет, подожди, – пьяно сказал Волков.
– Что еще? – спросил я.
– Может, хватит, Волков? – сказала Катя.
– Давай поцелуемся, – предложил мне Волков, и это было, пожалуй, самое удивительное и самое непостижимое в этой ночной встрече.
Мы с ним поцеловались. Он все норовил в губы и взасос.
Нас объединяла с ним не школьная дружба, но женщина, которую мы оба безнадежно любили. Я – первым, а уж потом Волков – с моей подсказки. Права была его мать, забрав из школы: я на него дурно влиял. Но было уже поздно, когда она догадалась.
– Чья это тайна?
Владимир Исаакович Соловьев – известный русско-американский писатель, мемуарист, критик, политолог.

Комментариев нет:
Отправить комментарий