«Проповедник Ламмед‑Вов» и другие
Раввин с Моховой
Начнем с одного вроде бы незначительного эпизода. Литературовед Илья Левин в 1980‑х годах слышал от «последнего обэриута» Игоря Бахтерева, что в 1927 году обэриут Боба Левин водил его и Хармса к некоему раввину, жившему на Моховой улице. Ничего особенного бы не было в этом воспоминании, если не знать, какой именно раввин жил в 1927 году на Моховой.
А жил там не кто иной, как шестой Любавичский Ребе Йосеф‑Ицхак Шнеерсон. Как раз в 1924–1927 годах он находился в Ленинграде и квартировал по адресу Моховая, 12/22. Трижды в неделю принимал там своих последователей. Но мог ли Левин привести к нему в дом иноверцев? И почему вообще он был принят в доме прославленного еврейского учителя?

Пока же важно вот что: 14 июня 1927 года Ребе был арестован ОГПУ. Сперва его приговорили к смертной казни, но, очевидно, свирепый приговор был «для острастки»: после вмешательства международной общественности власти ограничились ссылкой в Кострому. Может, Левин, Хармс и Бахтерев были у Ребе именно в те дни, когда он, выпущенный из тюрьмы, прощался с хасидами перед ссылкой? В те дни на Моховой побывало много народу. Но тогда визит к Ребе должен был отразиться в дневнике, который Хармс вел всю свою жизнь. Между тем как раз за май–июнь 1927‑го в дневнике лакуна. Значит, предполагаемая встреча Хармса с Ребе, скорее всего, относится именно к этому времени…
Трудно представить себе ее. Это встреча представителей не только двух разных народов и конфессий, но и разных цивилизаций. XX век молодого ленинградского писателя‑авангардиста и XX век любавичских хасидов — разные века. Но все же она, по всей вероятности, была. И была не случайной.
Корни и интересы
ОБЭРИУ («Объединение реального искусства») формально существовало всего два с половиной года. Литературное движение, связанное с ним, — около десятилетия. Лишь малая часть написанного обэриутами была своевременно опубликована. Многое не уцелело. Но не случайно уже полвека наследие обэриутов (Даниила Хармса, Александра Введенского, Николая Заболоцкого и других) изучается десятками ученых, читается на разных языках, а личность Хармса окружена легендами.
Это была эпоха, когда дискриминируемые прежде евреи массово входили в социальную и культурную элиту страны — благо, революция, эмиграция, репрессии создали много «вакансий». В этом контексте неудивительно, что у половины из тех 12 человек, кто так или иначе входил в основной обэриутский круг, были еврейские корни. Но корни эти разные.
Например, недолго входивший в ОБЭРИУ режиссер Клементий Минц — сын квалифицированного ремесленника, вырвавшегося из черты оседлости. А философы Леонид Липавский и Яков Друскин, дружба с которыми так много значила для Хармса и Введенского, — сыновья успешных и состоятельных врачей, ассимилированный и образованный средний класс. К этому же классу принадлежал родившийся в смешанной семье обэриут Александр Разумовский: вся родня — юристы и врачи.
В 1933–1934 годах у Липавского собирался кружок бывших обэриутов. Велись серьезные философские беседы. Каждый участник должен был описать круг своих интересов. Эти «анкеты» сохранились. У Липавского есть такой пункт: «Предки, евреи». Но насколько его интерес к собственному еврейству был глубок, сказать трудно.
Совсем особая ситуация у выдающегося поэта и прозаика Константина Вагинова, который о своих еврейских корнях даже не знал. Его отец, выходец из известной семьи зубных врачей Вагенгеймов, еще в детстве вместе с родителями крестился в лютеранство. Судьба сложилась так, что он стал жандармским офицером, женился на дочери сибирского миллионера, перешел теперь уже в православие, а с началом Первой мировой, как «истинно русский человек», попросил изменить свою «немецкую» фамилию на Вагинов.
Борис Михайлович (Бер Мишелевич) Левин, уроженец местечка Ляды в Белоруссии, был единственным среди обэриутов выходцем из патриархальной местечковой среды. Позднее, уже после распада ОБЭРИУ, он посвятил этому родному для себя миру не одну книгу: «Лихово», «Улица сапожников», «Вольные штаты Славичи». Писал, конечно, с оглядкой на цензуру, сглаживая национальные противоречия, подчеркивая классовые и избегая говорить что бы то ни было о религии. Между прочим, иллюстратором некоторых книг Левина был Анатолий Каплан. В 1928 году этот молодой в то время художник участвовал в оформлении вечера «Три левых часа» — знаменитого выступления обэриутов в ленинградском Доме печати. Позднее он стал главным в СССР художником «еврейской темы».
Конечно, публично Левин не упоминал о том, что происходил из семьи любавичских хасидов. Но друзья об этом знали. Когда оказалось, что писатель Борис Левин уже существует, Маршак посоветовал Бобе (успешно начинавшему свою деятельность как автор детских книг) использовать в качестве псевдонима еврейское имя: Дов‑Бер, или в белорусско‑еврейском произношении Дойвбер. Так он и остался в литературе Дойвбером Левиным. А Дов‑Бер — конечно, в честь магида из Межерича и второго Любавичского Ребе… Обэриуты вспоминали, что молодой советский писатель Левин владел ивритом и неплохо знал традиционную еврейскую книжность. Что они под этим подразумевали, трудно сказать, но в доме Любавичского Ребе Левин был принят, как видно, не случайно.

Левин был не таким близким другом Хармса, как Введенский, Заболоцкий и Друскин, но входил в его окружение не один год. В 1929 году Хармс и Левин вместе с еще одним обэриутом, Юрием Владимировым, составили «Устав дозорных на крыше Госиздата» — истинно обэриутский, озорной и забавный «документ». А два года спустя вышла книга Левина «Десять вагонов». Она была посвящена еврейскому детскому дому на Васильевском острове, куда в свое время привезли детей с охваченной Гражданской войной Украины. Детдом и еврейскую школу возглавлял выдающийся музыковед и педагог З. А. Киссельгоф. В книге Левина два писателя — Ледин и Хлопушин (в которых легко угадываются Левин и Хармс) — случайно заходят в детдом, спасаясь от дождя. На самом деле их командировал туда от детской редакции Госиздата Маршак. Но Хармса эта работа не заинтересовала: документалистика не была его жанром, да и живых, из плоти и крови детей он, как известно, недолюбливал, что не мешало ему быть автором прекрасных детских стихов и рассказов. В итоге Левин написал книгу в одиночку.

Можно вспомнить еще многое. Например, именно Левин один‑единственный провожал Хармса на вокзале в ссылку в Курск в 1932 году. Но в данном случае нам важно, что именно Левин оказался посредником между Хармсом и миром хасидизма. Что же в этом мире привлекало Даниила Ивановича?
Даниил и каббала
Отец Даниила Ивановича, Иван Павлович Ювачев, человек богатой биографии (он побывал военным моряком, участником террористического подполья, заключенным в Шлиссельбурге, метеорологом на Сахалине, капитаном речного корабля в Уссурийском крае, участником географической экспедиции в Туркестане, чиновником управления сберегательных касс, бухгалтером на Волховстрое, архивариусом и не в последнюю очередь плодовитым литератором), испытывал горячий интерес к мистике. Правда, его собственные мистические сочинения своеобразны: чувствуется, что автор вырос на Писареве и Бокле и лишь в зрелом возрасте (в частности, в тюрьме) пережил религиозное обращение. В любом случае Иван Павлович был человеком основательным. Для понимания истинного смысла Библии в годы заключения и ссылки он изучал не только древнегреческий, но и древнееврейский язык.

Отношение Ювачева к евреям было сложным. Судя по его дневнику, он искренне верил, что тайный «синедрион» управляет или скоро будет управлять миром, но в отличие от черносотенцев‑антисемитов готов был принять такое положение дел. На Сахалине он учил грамоте детей евреев‑ссыльных. С некоторыми евреями, ставшими его товарищами по несчастью, он сохранял дружбу до конца жизни, например с будущим ученым хранителем кунсткамеры Л. Я. Штернбергом. Как‑то в 1930‑х годах, в Йом Кипур, он заходил в синагогу — так далеко простирался его религиозный синкретизм…
Даниил Иванович Ювачев, принявший литературный псевдоним Хармс, мистические интересы от отца унаследовал. Не случайно он был назван именем Даниила — пророка‑гадателя. Пик его мистического чтения падает на 1926 год. В то время он читает многое «по теме» — от Якоба Беме до книг о йоге. Интересуется и каббалой. Упоминаемый Хармсом набор книг — в рамках того, что было ему доступно: «Среди тайн и чудес» Н. Рубакина, «Очерки каббалы» Э. Трубича, популярная заметка Вл. Соловьева о каббале, предназначенная для словаря Брокгауза и Ефрона. Хармс выписывает каббалистические термины (с примерным толкованием), переводы имен архангелов, рисует в записной книжке еврейский алфавит. В числе настольных книг Хармса в этот период и пропитанный еврейской мистикой роман Г. Мейринка «Голем».
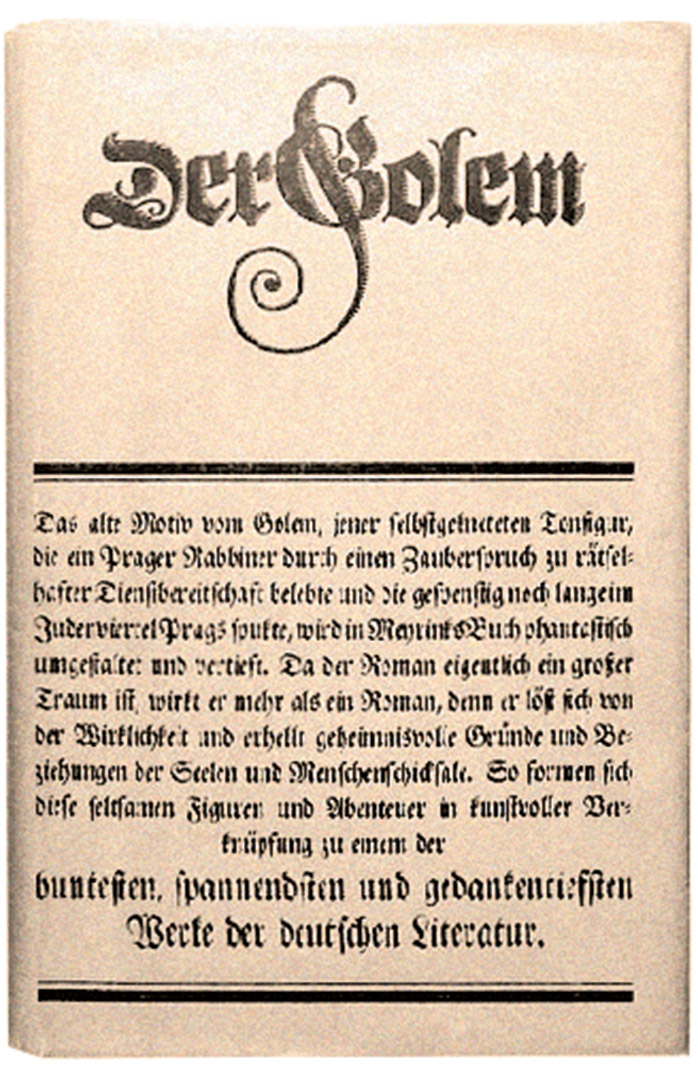
В это время в его записных книжках появляются имена и Бааль‑Шем‑Това, и рабби Нахмана из Брацлава, заходит речь о «расколе» между хасидами и митнагедами. То, что хасиды пристально интересовались каббалой, общеизвестно. Но откуда об этом духовном течении мог знать Хармс — кроме беглых упоминаний в уже перечисленных книгах?
Во‑первых, от того же Левина. Рассказы Боба о его родных местах казались петербуржцам‑обэриутам очень увлекательными и экзотическими. На них был построен спектакль‑импровизация «Моя мама вся в часах», который Хармс, Введенский, Бахтерев, Заболоцкий и еще два их товарища — Сергей Цимбал и Георгий Кацман (Ках‑Боат) — репетировали (но так и не довели до премьеры) в начале 1927 года .
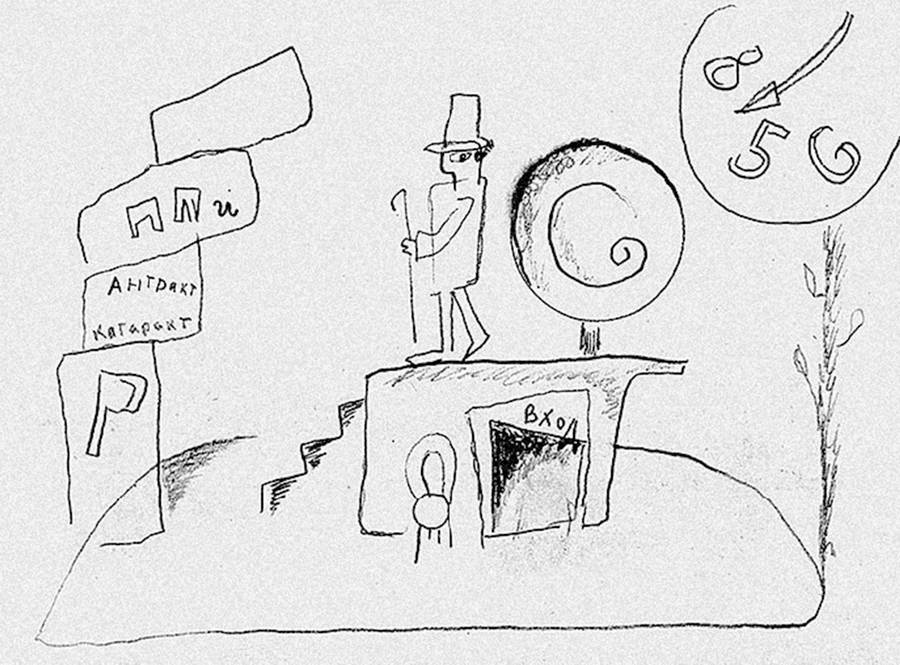
22 марта 1929 года Хармс делает запись в дневнике: «У Левина достать запись с мотивами Великого Мотива Реббе из Лядов» . Как указывает литературовед А. А. Кобринский, речь идет о нигуне «Арба бавот» («Четверо врат»), приписываемом Алтер Ребе, Шнеуру‑Залману из Ляд, основателю любавичской хасидской династии. Эта мелодия состоит из четырех частей, каждая из которых соответствует одному из упомянутых в каббале высших миров. Хасиды наделяют ее магическими свойствами.

Другим источником Хармса могли стать переводы хасидских сказаний на немецкий язык, выполненные философом Мартином Бубером и публиковавшиеся с 1904 года. По‑немецки Хармс читал свободно, а вот доходили ли до него книги Бубера, однозначно сказать нельзя.
Если он читал хасидские сказания, в них многое должно было его привлечь. Прежде всего мотив чуда, свойственный агиографии. Но также и то, что чудо здесь заключено в бытовую оболочку, притом зачастую чуточку странно и абсурдно. Вот, например: «Однажды Бааль‑Шем так глубоко погрузился в свои размышления, что забыл о том, что стоит на краю пропасти, и занес над обрывом ногу. В ту же минуту соседняя гора сошла со своего места, придвинулась вплотную к той, на которой стоял Бааль‑Шем, и он мог спокойно продолжать свой путь». Не правда ли, в поведении горы есть нечто хармсовское?
«Живущие на Конюшенной» и другие
Сделаем небольшое отступление. Связи Хармса с еврейским миром были не только интеллектуальными. Мы уже говорили о происхождении многих обэриутов. Между тем еврейкой была женщина, под знаком любви к которой прошли семь лет жизни Хармса.
Когда Даниил Ювачев познакомился с Эстер Русаковой, ему было 19 лет, ей — 16. Эстер провела детство во Франции. Ее отец Александр Иванович Русаков (настоящее имя Сендер Иоселевич), рабочий‑красильщик, в 1905 году участвовал в организации отрядов еврейской самообороны на юге России, примкнул к «анархистам‑коммунистам», эмигрировал во Францию. В Дюнкерке, где он находился в годы Гражданской войны, Русаков организовал забастовку докеров, пытавшихся сорвать отправку оружия белой гвардии, за что был выслан в советскую Россию. В Ленинграде, в соответствии со своим пониманием вещей, он пытался организовывать кооперативные предприятия. Однако к концу 1920‑х произошла монополизация производства государством, и анархисту пришлось скромно, как прежде, работать красильщиком на фабрике. Впрочем, его все равно не оставляли в покое. Но об этом чуть позже.

У Русакова и его жены, которую на русский манер звали Ольгой Григорьевной, было шестеро детей: сыновья Поль (Леопольд) и Жозеф, дочери Любовь (Блюма), Анита, Евгения и Эстер. Про каждого из них можно долго рассказывать. Так, композитор Поль Марсель (таков был его псевдоним) — автор популярнейших до сих пор песен «Девушка из Нагасаки» и «Когда простым и нежным взором…». Евгения — жена французского писателя Пьера Паскаля. Любовь тоже вышла замуж за писателя, специалиста по французской литературе, при этом революционера и троцкиста Виктора Львовича Кибальчича (псевдоним — Виктор Серж).
А Эстер была обаятельная, чувственная девушка, не очень хорошо владевшая русским языком (чувствовалось эмигрантское детство) и совершенно равнодушная к литературе. Ее отношения с Хармсом развивались параллельно с отношениями с неким Михаилом, за которого она ненадолго вышла замуж. Дневниковые записи Хармса о любви к Эстер трогательны, а иногда и забавны в своей непосредственности. Хармс и проклинает ее, и хочет от нее избавиться, и не может от нее оторваться. С грустью он добавляет: «Она ни при чем, женщина как женщина, а я так какой‑то выродок».
В 1928 году Хармс и Эстер официально оформили брак. Этому предшествовали драматические события в жизни семьи Русаковых. Как раз был разгромлен «троцкистско‑зиновьевский блок». Многие друзья Виктора Сержа оказались сосланы, сам он отделался исключением из партии, но неприятности начались и у его тестя.
Внешне это выглядело как обычный коммунально‑бытовой скандал, но, по всей вероятности, за ним стояло ОГПУ. Русаковы жили в многонаселенной коммунальной квартире, занимали там две комнаты и были ответственными квартиросъемщиками. Некая Сверцева, член ВКП(б), явилась к Русакову в сопровождении «представителей общественности» и заявила права на одну из его комнат, в конце концов спровоцировав драку. В тот же день «бывшему нэпману» Русакову предъявили обвинение в покушении на члена партии, выгнали его с работы и из профсоюза. Дело стали раздувать. Кстати, собственную несдержанность Сверцева сперва объясняла тем, что обнаружила: у Русакова «вся стена в иконах» (это, видимо, считалось достаточным основанием для любых бесчинств), пока не выяснилось, что Александр Иванович — еврей.
В итоге Русакову дали условный срок, но прошел год, прежде чем его восстановили на работе и в профсоюзе. А человек, в 1928 году в СССР не имевший профсоюзного билета, был изгоем: он не имел права даже на продуктовые карточки и мог закупаться лишь втридорога в немногочисленных коммерческих магазинах.
Так что брак с Хармсом нужен был Эстер и из практических соображений: в случае чего он мог защитить от высылки. Даниил наряду со всеми участвовал в семейных хлопотах, бегал по адвокатам, ходил в ГПУ. Впрочем, счастья этот брак по любви ему не принес и в 1931 году был расторгнут.
Виктору Сержу с женой и Евгении Русаковой с мужем удалось уехать во Францию. Но органы свели счеты, арестовав Эстер и Аниту. Последняя выжила, а Эстер погибла в Магадане не то в 1938‑м, не то в 1943 году, совсем молодой…
Были у Хармса и другие — уже чисто дружеские — еврейские связи как в обэриутском кругу, так и за его пределами. Тот же Маршак был потомком знаменитого раввина XVII века Аарона‑Шмуэля бар Исраэля Кайдановера и в молодости активно участвовал в сионистском движении.
Вторая жена Хармса Марина Владимировна Малич вспоминала: «У нас было много друзей‑евреев, прежде всего у Дани. Он относился к евреям с какой‑то особенной нежностью. И они тянулись к нему…»
«Тайный праведник» или «проповедник»?
У Хармса есть несколько произведений, где так или иначе возникает еврейская тема. Самое загадочное из них — «Ку Шу Тарфик Ананан», датирующееся 24 марта 1929 года.
На самом деле в тексте всего два персонажа: обладатель по‑обэриутски загадочного имени Тарфик (он же не менее загадочный Ананан) и «проповедник» Ку (Шу так и не появляется, что добавляет загадочного абсурда).
Вот что говорит о себе Ку:
На каждой скале одиночных трав
греховные мысли поправ
живет пустынник седоус и брав.
Я Ку проповедник и Ламмед‑Вов
сверху бездна, снизу ров
по бокам толпы львов
Ламед‑вавники по хасидским поверьям — скрытые праведники, числом 36, что обозначалось буквами «ламед» и «вав» («вов»), в каждом поколении. Ламед‑вавники совершают добрые дела, но никто не знает об их праведности, да и сами они часто о ней не знают. О ламед‑вавниках часто вспоминают в связи с фрагментом из повести Хармса «Старуха»:
Это будет рассказ о чудотворце, который живет в наше время и не творит чудес. Он знает, что он чудотворец и может сотворить любое чудо, но он этого не делает. Его выселяют из квартиры, он знает, что стоит ему только махнуть платком, и квартира останется за ним, но он не делает этого, он покорно съезжает с квартиры и живет за городом в сарае. Он может этот сарай превратить в прекрасный кирпичный дом, но он не делает этого, он продолжает жить в сарае и в конце концов умирает, не сделав за свою жизнь ни одного чуда.
А. А. Кобринский в связи с этим сюжетом вспоминает одну из сказок рабби Нахмана под названием «О принце из драгоценных камней», в которой праведник умирает, совершив единственное чудо в своей жизни. Похоже, Хармс был с ней знаком.
Но что же делает и говорит Ку? Он проповедник, а тайный праведник проповедником быть не может. Не может он и называть себя публично ламед‑вавником. Впрочем, персонаж Хармса говорит нечто иное: «Я <…> Ламмед‑Вов». «Я — тридцать шесть»? И таинственно, и абсурдно.
И еще: в упомянутый в процитированных строках ров со львами бросили не кого‑нибудь, а пророка Даниила, именем которого Хармс был назван.
Дальше есть такие строки:
Ложится за угол владыка умов.
И тысяча мышиц выходят из домов.
Но шкап над вами есть Ламмед‑Вов.
Шкаф для обэриутов — предмет загадочный, мистический. Как, впрочем, и многие другие предметы, но чуть больше. Во время вечера «Три левых часа» Хармс выезжал на сцену, сидя как раз на шкафу (который толкали рабочие сцены).
Чему же учит «проповедник»? Честно говоря, от еврейской традиции это далеко:
Похлебка сваренная из бобов
недостойна пищи Б‑гов
и меня отшельника Ламмед‑Вов.
Люди, птицы, мухи, лето, сливы
совершенно меня не пленяют
Ку призывает Тарфика «стать проклятым», обрести свою истинную сущность, которая «легче вздоха» и которая суть Ананан…
Для Хармса любая мистическая традиция была важна не сама по себе, а как повод для собственных ощущений и переживаний. Он легко погружался в мир экзотичных и таинственных слов и стоящих за ними образов. Его привлекала сама «непонятность» чужого языка: он не хотел ее расшифровывать. На стене в его комнате висела надпись: «Ом мани падме кум» . Малич он объяснил, что это «очень древнее и сильное заклинание», в суть же его не вдавался.
Можно предположить, что и в еврейской мистической традиции форма для него была важнее сути. Точнее, форма порождала новую, неожиданную суть. Но с этой традицией и ее носителями Хармс соприкасался гораздо ближе и теснее, чем с носителями традиции буддийской.
Вообще обэриутам, как и всем авангардистам XX века, был свойственен культурный и духовный синкретизм. В силу понятных исторических причин еврейская составляющая в этом синкретическом мире оказалась достаточно сильна.
Комментариев нет:
Отправить комментарий