Если я только за себя, то зачем я?
Продолжение. Начало см. в № 12, 2022 (368)
В первом круге ада
Трех беглецов немедленно вернули в Курск, где уже началось следствие. Длилось оно девять месяцев, и центральной фигурой обвинения стал Генех Рапопорт. На него как руководителя ешивы были направлены основные усилия следователей: Генеха пытались сломать, чтобы превратить в свидетеля показательного процесса. Но, поскольку в это чекисты сами не очень‑то верили, их главной задачей было выбить, выпытать, вытянуть из него максимум информации о других любавичских хасидах и их подпольной деятельности. Следователям требовалась любая, пусть даже кажущаяся на первый взгляд совершенно неважной информация. Неизвестно же, как она потом может пригодиться, какое воздействие на будущих арестантов способна оказать. Каждое слово, произнесенное Генехом во время допросов, тщательно записывалось и анализировалось. И поэтому он предпринимал колоссальные усилия, чтобы не проговориться, следил действительно за каждым словом.
Перед началом допросов Генеха поместили в карцер — чтобы стал посговорчивее. Эта камера представляла собой помещение размером три шага в длину и три шага в ширину; из обстановки лишь сломанный стульчак; ни окон, ни лампочки. Свет Генех видел только раз в сутки, когда в двери карцера открывалось окошко и тюремщик просовывал кружку воды и кусок черного хлеба. Через день вода в кружке была горячей. Генех умер бы от жажды, если бы не стены камеры — они были настолько влажными, что кусок ткани, оторванный от рубашки, быстро пропитывался водой. Генех выжимал его в рот и повторял операцию до тех пор, пока не переставал чувствовать острую жажду. Но пить тем не менее хотелось постоянно.
Спасло Генеха то, что август того года в Курске выдался жарким. Все эти тридцать дней спать ему пришлось на каменном полу, но благодаря жаре за стенами он ничего себе не отморозил и никаких болезней не нажил. Вспоминая это впоследствии, в зрелые годы, Генех говорил, что арест в августе оказался благословением: страшно даже представить, чем мог закончиться для него месяц, проведенный в карцере курской морозной зимой.

Для обычного узника самым тяжелым во время пребывания в карцере было одиночество и невозможность как‑то скоротать время — разговором ли с сокамерником, чтением ли книги. Здесь, в полной тьме, он оставался наедине с самим собой. Но для Генеха, проведшего столько лет за изучением Гемары и хасидизма, это не представляло никакой проблемы. Скорее, наоборот. Он помнил наизусть десятки майморим Любавичских Ребе, сотни страниц Талмуда всплывали перед его мысленным взором. Генех погружался в споры мудрецов, и порой только стук оконца в двери, открывавшегося вертухаем, отрывал его от спора Равы с Абайе или рабби Йоханана с Реш Лакишем. В ешивах раввины не раз повторяли тмимим: запомните принцип, сформулированный Бештом, — ничего в этом мире не происходит случайно. В любой ситуации, в которой оказывается человек, он должен постараться понять, зачем он в нее попал, что хочет ему сказать Всевышний. И в каждой ситуации содержится урок для человека — необходимо извлечь его для лучшего исполнения миссии, ради которой его душа спустилась в этот мир.
Через несколько дней в карцере Генеху стало ясно, для чего он оказался в этом месте. Последние годы он все свои силы и время посвящал ученикам ешивы. И это было правильно: для решения разных проблем нужны были несколько человек, а он был один. В обеспечении функционирования подпольной ешивы, да еще в условиях невиданных гонений, Генех видел свое предназначение, ту самую миссию, ради которой его душа оказалась в материальном мире. Ежедневное изучение Торы пятнадцатью еврейскими мальчиками было огромным делом, хоть как‑то компенсирующим в глазах Всевышнего преступления против Торы, творившиеся евсеками. Пятнадцать мальчиков отводили беду от всего еврейского народа, который мог оказаться проклятым по вине обезумевших членов Еврейской секции ВКП(б). Но, по‑видимому, Генех оказался не совсем прав. То, что он махнул на себя рукой и почти перестал заниматься, лишь изредка присоединяясь к занятиям тмимим, было неправильно. И вот теперь Всевышний давал ему возможность наверстать упущенное: в карцере его никто не отвлекал, и он мог спокойно заниматься, разве что с перерывом на сон. Сперва его смущало, что он делает это в одном помещении с унитазом, то есть в месте нечистом, никак не предназначенном для слов Торы. А потом понял: если не произносить ничего вслух, а только думать, то ничего страшного. И Генех все эти тридцать дней думал — анализировал споры мудрецов Талмуда, майморим своих Ребе, то есть учился сутками напролет. Поэтому из карцера он вышел совершенно не сломленным ни физически, ни духовно. Наоборот, против ожиданий тюремщиков дух его укрепился — Генех получил наглядное доказательство, что Всевышний с ним, что Он заботится о нем.
А крепость духа Генеху понадобилась сразу же после перевода его из карцера в обычную камеру. Бытовые условия в ней были несравненно лучшими: в распоряжении заключенного имелись койка, стул и стол. Сквозь окно, забранное намордником , просачивался свежий воздух, и даже лучи солнца пробивались по углам. Генех уже успел позабыть, что такое лучи солнца, и с удовольствием наблюдал, как они перемещались по потолку. Да и сама камера была довольно большая и позволяла устраивать прогулки — десять шагов вперед, десять шагов назад. Поначалу через несколько сот шагов он уже чувствовал усталость — сказывалось месячное пребывание без движения. Когда же Генех стал посвящать прогулкам целые часы, все пришло в норму. А ведь прогулки ничуть не мешали ему думать и учиться.
Но через две недели после перевода в новую камеру все изменилось. Начались допросы, которые так выматывали Генеха, что почти весь день он находился в полусонной одури, будучи не в состоянии ни о чем думать.
Тюремное расписание было простым: в шесть часов подъем, и с этого момента вплоть до десяти часов вечера лежать на кровати и спать даже сидя категорически запрещалось. Только когда в 22.00 звучала команда «отбой», заключенный имел право лечь в постель. Но не так, как ему хотелось: руки должны быть поверх одеяла, чтобы вертухай, заглянув в глазок, мог их видеть. Закрывать ладонями глаза было запрещено, хотя лампочка под потолком — мощностью никак не меньше 200 ватт — горела круглосуточно. Впрочем, с этими проблемами Генех справился бы легко. Ужасное начиналось около двенадцати часов ночи. В двери раздавался скрежет поворачиваемого ключа, вертухай входил в камеру, и Генех, согласно тюремным правилам, вскакивал и вытягивался перед ним по стойке смирно.
— Фамилия, имя? — во весь голос орал вертухай.
— Генех Рапопорт!
— Не спать, готовиться к допросу.
И вертухай выходил, заперев дверь. После его приказания Генех уже не имел права ложиться на койку. Он усаживался на стул, и когда минут через пятнадцать дремота начинала овладевать им, в камере опять появлялся вертухай. Внимательно оглядев Генеха и убедившись, что тот не уснул, вертухай вновь орал во весь голос: «Фамилия, имя?»
Диалог между ними повторялся, словно его и не было совсем недавно, и вертухай уходил. Потом все начиналось снова — и так пять‑шесть раз подряд. И когда Генеха наконец‑то выводили из камеры на допрос, он испытывал даже какую‑то тихую радость, что эта мука наконец закончилась. Но вместе с тем он прекрасно знал, что ему сейчас предстоит.
Как правило, допрашивали его два следователя. В отличие от классической схемы — добрый и злой, оба были злыми. Оба по нескольку раз за ночь избивали Генеха — сильно, но не до потери сознания. И десятки раз задавали одни и те же вопросы, требуя рассказывать об учащихся ешивы, о членах комитета, о курских евреях, помогавших работе ешивы. Сами называли имена, фамилии, описывали ситуации. Он был поражен, как много знали следователи о подпольной деятельности Хабада. Чтобы раздобыть всю эту информацию, надо было задействовать десятки, если не сотни людей. И в течение целого рабочего дня, за немалую зарплату эти люди занимались слежкой за хасидами, вынюхиванием малейших подробностей их деятельности. Уходили на это колоссальные ресурсы, а ведь ничего преступного хабадники не делали. Против советской власти не выступали, свергнуть большевиков не призывали. Они хотели одного — жить, как их предки, и воспитывать детей в духе любавичского хасидизма, преданными своему Ребе. Только сейчас, на этих допросах Генех понял, насколько советская власть ненавидела Ребе. Многие вопросы следователей касались именно его.
— Ты лично знаком со Шнеерсоном? Как ты поддерживаешь связь со Шнеерсоном? Кто является связными Шнеерсона? Как к тебе попадали доллары и злотые от Шнеерсона? Какие работы Шнеерсона учили в ешиве? Кто писал письма Шнеерсону? Кто из учащихся ешивы и знакомых тебе хасидов получал письма от Шнеерсона? Что в них писал им Шнеерсон?
Генех понимал, что каждое слово имеет значение, что даже за просто кивком головы последует новый шквал вопросов. От него сейчас напрямую зависела свобода, а может, и жизни десятков людей. Поэтому приходилось быть чрезвычайно внимательным и осторожным. Но возможно ли это, если голова раскалывается от недосыпа, тело ноет от побоев и ты проваливаешься в сон, стоит следователям замолчать хоть на пару минут — то ли чтобы раскурить папиросу, то ли чтобы выпить чаю и съесть неторопливо, со смаком, бутерброд.
Допросы заканчивались под утро. Генех падал на койку и мгновенно засыпал. Но почти сразу вертухай начинал колотить в дверь: «Подъем! Подъем! Немедленно встать с кровати!»
После такой ночи день проходил в состоянии одурения, постоянной борьбы со сном. Не приведи Г‑сподь, вертухай застанет узника спящим в дневное время! За это бросали в карцер. За тюремными стенами уже стояла глубокая осень, и Генех точно знал, какой холод сейчас царит в карцере. Наконец наступали долгожданные десять часов вечера. Он валился в постель и был счастлив, если вертухай появлялся в его камере не сразу, а в половине двенадцатого, даруя ему благословенных полтора часа сна. Но самое позднее в полночь все начиналось опять.
Следователи требовали давать на бесконечно повторяемые ими вопросы подробные и обстоятельные ответы. Генех сперва удивлялся: зачем? Неужели им мало одного раза, ведь они тщательно записывают каждое его слово? Потом понял: они пытаются поймать его на неточностях, на противоречиях или ждут, что он, забыв сказанное ранее, добавит что‑то и тем самым сделает для них картину более полной.
На часть вопросов он отвечал сразу — не знаю, не видел, не помню, ничего подобного не делал, ни о чем таком не слышал, ничего похожего не говорил. Для всего, что касалось помощи местных евреев, у него была хорошая отговорка. Когда Генех приехал в Курск, там еще жил старый еврей — настоящий праведник. Все свое время и силы он отдавал общественной работе. Только не советской, а еврейской: собирал деньги на цдаку и распределял ее между нуждающимися, находил связи, чтобы помочь кого‑то устроить на работу или походатайствовать перед властями о получении прописки или даже жилплощади. И делал это открыто. Как его не арестовали, осталось загадкой. Но не арестовали, и за несколько недель до разгрома ешивы он скончался в своей постели. Поэтому, когда следователи касались темы общения с местными евреями, Генех спокойно называл его фамилию. Были, однако, вопросы, от которых ему не удалось уйти. В частности, следователей очень интересовала тема иностранной валюты.
— Ты привозил ее из Москвы, — говорили они Генеху, — и получал, конечно, от членов комитета. А те — от Шнеерсона. Назови имя и фамилию того, кто в Москве передавал тебе валюту!
— О чем вы? Я в жизни ничего, кроме рублей, в руках не держал, — отвечал Генех.
— Держал, еще как держал! Мы даже знаем, какую именно валюту — польские злотые! Ты получал ее в Москве от комитета по ешивам. Назови фамилию того, кто тебе их давал!
— Никто и ничего мне не давал.
— Не давал? Никто? Так мы тебе напомним, как зовут этого никто: Йона Каган. Мы знаем всё и про всех! Не усугубляй свою вину запирательством!
— Какая вина? Какая валюта? Не понимаю, о чем вы.
Вопрос о валюте ему начали задавать с первого же допроса, и этот диалог повторялся каждую ночь. Пока на допрос не привели свидетеля — одного из тмимим. И тот повторил свои слова, уже запротоколированные и оформленные как свидетельские показания. Мальчик рассказал, что как‑то раз видел Генеха после его приезда из Москвы, когда тот выкладывал на стол пачки злотых, распределяя их для разных нужд ешивы. Возмущению Генеха не было предела: вот как этот мальчишка отплатил за все, что было сделано для него! Но, увидев, как жалко тот выглядел во время перекрестного допроса, как тряслись его плечи, а на глазах стояли слезы, успокоился. Что он мог требовать от мальчика? Противостоять машине подавления НКВД? Да, его сломали и вырвали показания. Но кто знает, что с ним для этого сделали? С ребенком двенадцати лет!
Факт наличия у него иностранной валюты, что само по себе уже было нарушением Уголовного кодекса, Генеху пришлось признать. Впрочем, он признавал и многое другое, чего не делал. Брать вину на себя вместо того, чтобы называть фамилии других людей, обрекая их на арест и муки, было намного проще и легче.
Очень быстро Генех понял, что никаких вещественных доказательств у НКВД нет, особенно против тмимим. На очередном ночном допросе один из следователей, представившийся Иваном Егоровичем, ухмыляясь, вытащил из папки два листа бумаги, скрепленных толстой железной скрепкой, и помахал ими в воздухе.
— Вот ты и попался. Вместе со всей своей шайкой‑лейкой, — довольным голосом произнес он.
Иван Егорович одевался в штатское — пиджак, белая рубашка, галстук. Пиджак его всегда был чистым, рубашка — накрахмаленной, на брюках — стрелочки, туфли блестели. Он никогда не кричал, не угрожал. Иван Егорович не был евреем, поэтому с ним Генех чувствовал себя посвободнее. Допросы Иван Егорович всегда вел сам, без напарника, и ему Генех рассказывал всякие небылицы. Тот тщательно всё записывал, часто переспрашивал, просил четко выговаривать каждое слово, особенно если речь шла о незнакомых ему ивритских или идишских названиях. Но со временем Генех убедился, что этот прием работал плохо. Протоколы допросов Ивана Егоровича, по‑видимому, попадали потом в руки к евсекам, работавшим в НКВД. Выросшие в еврейских семьях, а некоторые — даже в семьях любавичских хасидов, евсеки были в курсе всех тонкостей еврейской жизни. Обвести их вокруг пальца было намного сложнее.
Иван Егорович помахал листиками, но не вернул их в папку, а положил на стол.
— Ты пока поразмысли, что это может быть, а я поужинаю, — сказал он.
Генех только пожал плечами: о чем я могу поразмыслить, если я не знаю, что у вас там за листики? На Ивана Егоровича его жест не произвел никакого впечатления. Он поднял трубку телефона: «Принесите, пожалуйста, стакан чая. Покрепче и погорячей, — сказал он и, на секунду задумавшись, добавил: — С лимоном».
Следователь знал, что Генех, соблюдающий кашрут, из тюремного рациона ест только хлеб и пьет горячую воду, отказываясь от баланды. Поэтому, явно желая произвести впечатление на полуголодного парня, он неторопливо достал из‑под стола портфель и поставил его себе на колени. Отодвинул в сторону папку и листы, которые так и не спрятал в нее, расстелил на столе вышитую голубыми цветочками салфетку, и начал доставать из портфеля свой ужин. Сперва половину белого батона, потом баночку с желтым, застывшим медом. Достал нож, аккуратно отрезал тонкий ломоть от батона, щедро намазал медом. Посмотрев на Генеха, сделал жест ладонью: «Угощайся». В ответ Генех едва заметно усмехнулся и сказал: «Благодарю, ешьте сами».
— Да ты чего, все ведь кошерное, — настаивал Иван Егорович.
Еда и вправду была кошерной, Ивана Егоровича явно кто‑то проконсультировал. Ох как же Генеху, уже полтора месяца сидевшему на черном хлебе с водой да иногда с ржавой селедкой, хотелось батона с медом! Но он прекрасно понимал, что за каждый съеденный кусок придется платить. Именами, адресами, показаниями на других хасидов. А если он после столь щедрого угощения откажется, то Иван Егорович рассвирепеет. Нет, сам он Генеха еще ни разу не бил, рук своих в его крови не марал. Для этого у него был мордоворот, ждавший за дверью, тот бить умел, в чем Генеху уже не раз и не два пришлось убедиться на собственной шкуре.
В кабинет принесли чай, и следователь долго ел, намазывая все новые и новые куски, громко прихлебывал горячую ароматную жидкость. Пару раз он взглянул на Генеха и указал глазами на очередной кусок — мол, чего ждешь, сейчас кончится. Но Генех только покачал головой. Иван Егорович дожевал последний кусок, завернул баночку меда в салфетку и спрятал в портфель. Стряхнул со стола крошки и придвинул к себе папку с листиками.
— Знаешь, что это такое? — еще раз спросил он, подняв листик. И не дождавшись ответа, продолжил: — Это список учащихся твоей ешивы. Полный. Вместе с тобой. И написанный твоей рукой.
Иван Егорович встал и приказал:
— Руки.
— Что? — не понял Генех.
— Руки вперед! На уровень груди!
Иван Егорович надел на Генеха наручники и придвинул листики к его стороне стола.
— Теперь ты можешь, не нанеся урона вещдоку, с ним ознакомиться. Читай внимательно.
Перед Генехом лежали два листка. Первый — на иврите — был списком учеников ешивы, действительно составленным им. Против каждой фамилии была указана сумма маамад — денег, которые по обычаю хасиды перечисляли для содержания Ребе. Тмимим, не имевшие за душой ни гроша, тоже делали это, неизвестно где добывая кто рубль, кто полтинник. Дело ведь было не в величине суммы, а в причастности к Ребе, чувстве единства со всеми остальными любавичскими, делавшими то же самое. Деньги эти к Ребе не попадали — переправить их за границу было очень опасно, да и невозможно. Поэтому в свое время Ребе Раяц, только выехав из страны, велел раздавать их по разным ешивам «Томхей тмимим». Маамад, собранные в курской ешиве, были переправлены в витебскую. Все это объяснять Ивану Егоровичу, конечно, было нельзя. Но что на втором листке? Может, как раз в нем и скрывается бомба? Не зря Иван Егорович смотрит на него с таким торжеством и злорадством. Генех поднял руки и, хоть это было и очень неудобно, перевернул первый лист. И хмыкнул: это был перевод списка на русский язык с иврита.
— Не вижу ничего смешного! — рассердился следователь. — Ты не можешь не признать, что это список, написанный тобой. Графологическая экспертиза подтвердила. И не просто список — здесь указаны суммы, которые каждый из вас получил из‑за границы на осуществление антисоветской деятельности. Огромные суммы!
— Огромные? — с удивлением спросил Генех.
— Конечно. Вот, например, Дов Левин получил пятьдесят долларов. Это ведь немалые деньги! Продали вы Родину, как самые настоящие мальчиши‑плохиши, продали. И не за бочку варенья и ящик печенья. Знаешь ведь, сколько таких бочек и ящиков можно купить за пятьдесят долларов! Этот список — неопровержимое доказательство вашего предательства.
— Пятьдесят долларов? — Генех улыбнулся, уже не сдерживаясь. — Вас подвел переводчик, гражданин следователь. Неправильный, даже можно сказать, халтурный перевод вам подсунул. Смотрите сами.
— На что смотреть‑то? Думаешь открутиться? Ничего у тебя не выйдет, всё, я тебя к самой стеночке припер, — Иван Егорович побагровел, но склонился над листками.
Генех ткнул пальцем в первый:
— Вот здесь маленькая буква, которую ваш переводчик почему‑то не удосужился перевести. Вряд ли он ее не заметил, скорее всего, просто не понял и решил, что она неважна. На иврите это буква «куф». С нее начинается русское слово «копейка». То есть речь идет не о долларах, а о копейках. И Левин их не получил, а отдал. На цдаку, помощь нуждающимся. Заповедь эта у евреев очень важная, и каждый обязан выполнять ее по мере сил. Даже те, у кого и денег‑то особых нет. Идем дальше. Видите, моя фамилия фигурирует в списке первой. И возле нее стоит цифра один. По вашей логике это означает, что я получил один доллар. Я, глава ешивы? А ученик — в пятьдесят раз больше? Как такое возможно? Но обратите внимание: возле моей фамилии в оригинальном списке написана маленькая буковка «реш». С нее начинается русское слово «рубль». Это означает, что я не получил один доллар, а отдал один рубль на цдаку. И так все, кто перечислен в этом списке. Не получали, а давали. Не за измену Родине, а на помощь бедным людям. И этот список тому действительно неопровержимое доказательство. Вот вам и вся валюта с вареньем. Денег тут с трудом не на ящик, а на коробку печенья наберется. На мааааленькую коробочку, — ехидно протянул Генех.
После этого допроса Генех приходил в себя две недели. Бил его не мордоворот, а лично Иван Егорович. Бил долго на стуле, а потом, повалив на пол, топтал сапогами, вымещая на нем не только горечь разочарования, но и всю энергию, полученную от белого батона с банкой меда. Единственный документ, с помощью которого он надеялся слепить обвинение, оказался пустышкой.
Через три месяца следствие закончилось. Еще полгода всех арестованных продержали в СИЗО, а в апреле 1941 года, накануне праздника Песах, состоялся суд. Для всех тмимим, которым еще не исполнилось восемнадцать лет, он действительно оказался праздником свободы — их отпустили восвояси. А вот с главой ешивы и его помощником обошлись намного суровее. Полное отсутствие доказательств какой бы то ни было контрреволюционной деятельности не помешало самому справедливому и гуманному суду в мире приговорить Генеха к десяти годам лагерей, а его правую руку Йеошуа Каценеленбогена — к пяти. Хотя Йеошуа еще не исполнилось восемнадцати.
В преисподней
После оглашения приговора Генеха перевели в Москву. Здесь, в одной из столичных тюрем, он и встретил войну. Она оказала колоссальное влияние и на судьбу осужденных. Безостановочное немецкое продвижение в первые месяцы войны поставило под угрозу угольные шахты Донбасса, поэтому правительство приняло решение начать массовую добычу угля в Воркуте. Там уже работали несколько шахт, но объемы выработки были небольшими. Теперь воркутинский уголь приобретал стратегическое значение, действующие шахты начали в срочном порядке расширять и заложили новую, огромную, название которой говорило само за себя: Капитальная. Для работы требовалось большое количество рук, поэтому заключенных стали отправлять именно туда. В их число попал и Генех.

Он добирался до Воркуты из Москвы целый месяц. Разместили его вместе с другими зэками почему‑то не в «столыпине» , а в обычном товарном вагоне. Для увеличения мест в нем на высоте полутора метров прибили полку, на которой умещались пятнадцать человек. Генех сразу же занял место на самом ее конце, у стенки — здесь хотя бы с одной стороны не было соседа. Это давало возможность, отвернувшись, спокойно шептать молитвы и учиться, не вызывая лишних вопросов.
После выхода из карцера Генех продолжал искать ответ на вопрос: «Зачем Всевышний поместил меня именно в это место?» Искал в камере‑одиночке, на допросах, в общей камере, куда был переведен после завершения следствия. И пришел к выводу: его задача — остаться хасидом. Несмотря ни на что, соблюдать заповеди и учиться. Именно для этого Всевышний и направил его в эти круги ада. Зачем? Кто это может знать… «Махшевотай ло махшевотойхем» — «Мои мысли — не ваши мысли». Но задача ему была ясна, и он должен был, обязан был справиться с ней как настоящий хасид Ребе, то есть так, как учили и готовили его в «Томхей тмимим».
На полке и внизу, на дощатом полу вагона, зэки лежали вплотную один к другому. «И правда как сельди в бочке», — подумал Генех, впервые посмотрев сверху на своих товарищей. Только вот цена зэка в вагоне была меньше, чем у сельди в бочке. В том числе и цена жизни. В этом Генеху пришлось очень быстро убедиться.
Охрана устраивала проверки три раза в сутки. И не потому, что боялась побега. Побеги, конечно, случались, но очень редко. Проверки были не личной инициативой конвоя, а частью тщательно разработанной системы ГУЛАГа, целью которой было унизить заключенного, растоптать его человеческое достоинство и превратить в раба, беспрекословно выполняющего приказы. Когда поезд останавливался, а он больше стоял, чем двигался, дверь в вагон резко открывалась и по приставной лестнице в него входили несколько солдат во главе с сержантом.
«На проверку становись!» — зычно кричал он, несмотря на то что проверка порой проводилась глубокой ночью. После этой команды зэки были обязаны в течение минуты выстроиться напротив двери и выкрикивать свои имя‑фамилию, срок и статью. Спрыгивать с полки не составляло труда и запрыгивать на нее тоже: несмотря на почти год в заключении и более чем скромный рацион, физически Генех чувствовал себя неплохо. Да и почему бы так себя не чувствовать парню, которому только что исполнилось двадцать лет? Но для некоторых зэков забраться на полку было делом непростым. Никакой лестницы, конечно, не было, а сразу после завершения проверки все должны были опять же в течение минуты вернуться на свои места. Замешкавшийся получал удар прикладом куда придется — в спину, грудь, голову. Поэтому на полку надо было запрыгивать. Сразу и не мешая соседям. Далеко не всем это удавалось с первого прыжка. И когда несчастный зэк, повиснув на полке, пытался подтянуться, солдаты сперва реготали, а потом начинали бить его прикладами. Пока поезд добрался до Воркуты, от этих истязаний скончались два соседа Генеха — то ли им сломали ребра, то ли отшибли почки. Сперва Генех старался помочь беднягам — хватал за одежду и тащил вверх. Но сержанту это не понравилось. «Прекратить! — заорал он. — Еще раз увижу, пеняй на себя!»
Когда поезд прибыл в Воркуту, Генеха отправили на новую шахту. Его поставили грузить руду на вагонетку, а потом вытаскивать ее на поверхность. Толкать груженные доверху вагонетки было тяжело, а смена продолжалась 12 часов кряду.

Во время смены у него не было ни сил, ни возможности вспоминать листы Талмуда, разбирать споры мудрецов. И уж тем более вникать в философские и метафизические глубины майморим Любавичских Ребе. Этим он занимался перед сном. Генех взял себе за правило, когда объявляли отбой и заключенные старались как можно быстрее заснуть, минимум полчаса, а если получится, то и целый час посвящать учебе. Он часто повторял слова рабби Гилеля, которые когда‑то сказал им Йона Каган: «Если я только для себя, то зачем я?» Генех был убежден: Всевышний послал его в ад, чтобы и в нем, в самой глубине преисподней, он оставался хасидом, оставался предан своему народу и хранил свою веру. Так же как в деятельности ешив в условиях подполья и большевистских преследований, и в этом наверняка было какое‑то искупление, содержался духовный смысл. Своими муками и своей верностью он служил всему еврейскому народу, трудился для приближения Избавления из советского рабства, оказавшегося хуже египетского. Все свои силы и возможности Генех направлял именно на это и не имел права терять даже одной минуты. Поэтому во время работы он тихо повторял те несколько десятков псалмов, которые знал наизусть. Опасаться ему было нечего: если бы кто‑то и услышал его бормотание, то все равно ничего не понял бы. Но даже если бы и донес «куму», что Рапопорт целыми днями бормочет что‑то — уж не проклинает ли советскую власть? — то у него был готовый ответ: он повторяет слова веселых идишских песенок, чтобы работать еще пуще.
Реализация его миссии заключалась не только в интеллектуальных усилиях, но и в материальных действиях. В том числе и в соблюдении кашрута. Поэтому баланду, сваренную в лагерных котлах, Генех не ел. Поди знай, что там могло оказаться! Достаточно было, чтобы только один раз повара сварили в котле свиные кости, — и котел становился некошерным, а вся в дальнейшем сваренная в нем пища — запрещенной для соблюдающего кашрут. И ведь наверняка когда‑нибудь это уже произошло. Беда состояла в том, что ржавой селедки да 500 граммов хлеба, которые он ежедневно получал за ударную работу, катастрофически не хватало для восстановления сил. В тюрьме Генех тоже ел только хлеб, но там не было такого расхода калорий. Сильно ударила по нему и пасхальная неделя. Все семь дней он питался только сахаром, который выменивал на хлеб. Год назад, ожидая в курской тюрьме приговора, он легко перенес эту неделю — хоть и было голодно, но сахар давал силы. Для сидения на нарах их вполне хватало. Но не для двенадцати часов непрерывного толкания вагонетки.
Через год Генех — молодой, здоровый парень — превратился в доходягу. Темп его работы значительно снизился, окрики бригадира не помогали. Да тот не очень‑то и кричал, он все видел и понимал: больше из этого ходячего скелета уже не выжать. Работа Генеха в шахте чудом не закончилась трагически. Толкая вверх вагонетку, он от слабости потерял сознание и упал на рельсы. Вагонетка начала сползать назад и задавила бы Генеха, если бы зэк, толкавший следующую вагонетку, не метнулся бы к ней и не ударил по тормозному рычагу. Генеха отнесли в санчасть, и врач, едва взглянув на очередного доходягу, поставил стандартный диагноз: пеллагра. Причинами ее были авитаминоз и физическое истощение, от которых и страдал Генех весь последний год.
В больничке он провел шесть месяцев. И хотя из нее выписывали немедленно, едва лишь больному становилось чуть лучше, Генех задержался в ней надолго — его мучили высокая температура и не прекращавшийся понос. Ни о каком возвращении на работу не могло быть и речи, разве что его хотели бы побыстрее спровадить на тот свет. Но такой команды врач не получил. Мучения Генеха прекратились, когда врач через несколько месяцев сделал ему пять инъекций глюкозы подряд. Каждая ампула глюкозы была на вес золота, но врач сжалился над молодым парнем, который, так толком и не пожив, медленно, но неумолимо приближался к смерти. Инъекции оказали на Генеха поистине чудотворное воздействие, он пошел на поправку. И его тут же выписали.
Генех пришел в себя, но был еще так слаб, что толку от него в шахте не было никакого. Поэтому направили его в лагерное подсобное хозяйство — «колхоз», как называли его зэки. Работа там была легкой — собирать с полей свеклу, отсекать ботву и очищать свеклу от земли. К тому же работа была на свежем воздухе, а не в душной шахте. Когда наступили холода, Генех целыми днями занимался на складе переборкой свеклы и картофеля, запасенных на зиму. Здесь было и вовсе легко — выбирай чуть подгнившие овощи и бросай в ящики, которые затем отправлялись прямо на лагерные кухни. Никто ничего не подсчитывал и не проверял, важно было лишь одно — чтобы на кухню не попадали еще хорошие, неиспорченные овощи. Вертухаи на склад почти не заглядывали, поэтому можно было устраивать себе обеденные перерывы. Сперва Генех, как и все остальные зэки, трудившиеся на складе, ел картошку и свеклу сырыми. Потом раздобыл консервную банку, тщательно ее прокипятил и варил в ней овощные супы. Сколько уж там было витаминов в гнилых картошке со свеклой, но авитаминоз отступил, пеллагра прошла, и Генех даже поправился на несколько килограммов. Но счастье это закончилось через полгода, когда Генеха перевели в другой лагерь и отправили на лесоповал.
Никогда раньше он не держал в руках топор и пилу, а здесь пришлось научиться орудовать ими быстро и ловко. Работа была и тяжелой, и смертельно опасной: двое зэков двуручной пилой должны были распилить ствол почти полностью, а потом налечь на него и повалить. Сколько раз случалось, что высоченное дерево падало не туда, куда его толкали зэки, а прямо на них. Сколько людей погибло, сколько стало калеками! В отличие от склада, в лесу постоянно находились конвоиры, выводившие лесорубов из лагеря и возвращавшие в него. И вместе с ними бригадиры и десятники из зэков. Они не давали ни секунды продыху, постоянно сновали по вырубке и подгоняли остановившихся: «Что стал? О бабе (мамке) вспомнил? Хочешь ее увидеть — работай. А не то тут и закопаем». И это не было пустой угрозой.
Больше всего Генеха смущало, что он никак не мог понять, чего же хочет от него Всевышний. Ну не смерти же в самом деле? Зачем из тихого склада Он привел его в это проклятое место? Что Генех сделал плохого — ведь старался, честно старался изо всех сил выполнять свою миссию, как он ее понимал. Или, может, он понимал ее неверно? Может, он делал все время что‑то не то? Мысли об этом не отпускали Генеха. И он, обращаясь к Всевышнему, повторял слова Теилим: «Увидь бедствия мои, спаси меня, ибо учения Твоего я не забываю. Веди тяжбу мою и спаси меня, поддержи жизнь мою. Многочисленны гонители и преследователи мои — от свидетельств Твоих не уклоняюсь я. Пусть дойдет молитва моя к Тебе: спаси меня! Помоги мне рукой Своей, ибо повеления Твои избрал я. Пусть помогут мне законы Твои! Заблудился я! Словно овцу потерявшуюся, отыщи раба Своего, ибо заповедей Твоих я не забываю».
Но ответа не было. И посоветоваться было не с кем. Если бы он мог написать Ребе! Задать вопросы, попросить благословение. Но где Ребе и где он! Оставалось только сочинять в уме письмо Ребе и просить, чтобы свершилось чудо и р. Раяц его услышал. Это противоречило всем земным правилам, и не было никакой, абсолютно никакой надежды, что он когда‑нибудь не то что встретится с Ребе, а увидит хотя бы одного религиозного еврея. Но если бы он верил в обычные земные правила, то давным‑давно стал бы рядовым советским человеком, служил бы где‑нибудь днем, а вечером ходил в кино или на кружок политграмоты. Путь его был другим, и на этом пути его не могли не ждать чудеса. Поэтому Генех продолжал молиться и мечтать.

И однажды ночью ему приснился Ребе Раяц. Генех потом многие годы рассказывал об этом сне своим детям — он был четким и таким впечатляющим, что, проснувшись, Генех помнил каждое его мгновение. Во сне Генех вошел в комнату, в глубине которой стоял стол. За ним сидел р. Раяц и что‑то писал. Генех на несгибающихся ногах подошел к столу и остановился, не смея открыть рот и потревожить Ребе. Тот прекратил писать, поднял голову и посмотрел на Генеха. Раяц не произнес ни одного слова, да и посмотрел не пристально, а как бы невзначай. Но взгляд его излучал такую любовь и такую уверенность в нем, простом хасиде, и в том, что у него все будет хорошо! Уверенность эта сразу передалась Генеху, он заплакал от счастья. И проснулся. На своем обычном месте на нарах, в грязном, холодном, осточертевшем бараке. Рядом храпел сосед, укутавшийся в грязный ватник. От ватника пахло смолой, а соседские портянки, повешенные на гвоздь, вбитый в балку нар, привычно воняли. Но картинка сна никуда не исчезала, она стояла перед глазами — четкая и цветная. Слезы счастья продолжали течь по его щекам.
«Теперь все изменится, теперь у меня начнется новая жизнь!» — вслух воскликнул Генех. Он не боялся, что его услышат и поднимут на смех — стояла глубокая ночь, и все зэки спали.
Завтра ничего не произошло. И послезавтра тоже. Жизнь его не менялась — с утра он вместе со всеми уходил из лагеря в лес, и после долгого дня, с трудом волоча ноги, возвращался в лагерь. Но Генех не давал отчаянию или неверию пробраться в его сердце. Взгляд Ребе однозначно сулил ему добрые вести. Этот взгляд, от которого было так тепло на душе, стоил больше, чем любые слова благословения. Да, он, собственно, и был благословением. Надо было только запастись терпением и ждать, когда оно реализуется. Поэтому Генех терпеливо ждал. И дождался.
Через две недели после того, как ему приснился Ребе, в обеденный перерыв Генех отошел к срубленной сосне и, делая вид, что рассматривает ее, прикидывая, как после отдыха лучше срубить оставшиеся ветки, молился минху. Закончив ее, Генех поднял голову к небу. Темные тучи повисли над лесом, чуть ли не задевая верхушки сосен, скрывая и без того тусклое в этих краях солнце.
«Что Ты хочешь от меня, Хозяин Мира? — безмолвно закричал Генех. — Что я делал неправильно? Подскажи! Дай ответ! Ну хоть какой‑то! Но знай, что бы со мной ни случилось, я не сойду со своего пути и буду славить Тебя. И я уверен, что браха Ребе сбудется. Только поскорей, поскорей, пожалуйста, у меня уже нет сил! Из теснин, как Йона, я взываю к Тебе!»
— Шма Исраэль, Ашем — Элокейну, Ашем — эхад! — воскликнул Генех, подняв руки вверх, совершенно не думая, как это расценят конвойные и другие зэки.
— Барух Шем квод мальхуто ле‑олам ва‑эд! — вдруг услышал он за спиной.
Генех вздрогнул. Всевышний послал ему ангела? Элияу а‑Нави? Евреев в его отряде не было, а если кто‑то и был среди конвойных, вряд ли он посмел бы громко сказать такое на иврите.
Генех оглянулся — возле него стоял пожилой зэк, которого он раньше не видел. И тем не менее лицо его было знакомым.
— Что, ингале, плохо тебе? — спросил участливо незнакомец.
И Генех вспомнил. Это был Борух — габай синагоги в местечке неподалеку от Гомеля. Он работал снабженцем в армии и несколько раз тайно помог Генеху раздобыть продукты для ешивы.
До конца жизни Генех был убежден, что Всевышний свершил для него явное чудо, на месте дав ответ на его вопросы. И помог в этом не кто иной, как Ребе Раяц. Да, Б‑жественное присутствие в нашем мире сокрыто — это один из базовых принципов его существования. Открывается оно лишь великим праведникам, раз в сотни, а то и тысячи лет. Но и для него, простого человека, Всевышний решил отдернуть на мгновение занавесу. Наверное, в заслугу того, что Генех делал до сих пор — и учась в «Томхей тмимим», и руководя ешивой в Курске, и никого не выдав на следствии. И, главное, в заслугу его поведения здесь — в преисподней. Значит, делал он все правильно и шел по верному пути! Это и был ответ — о нем Генех просил, его ждал, но получить в столь явном виде, честно говоря, не рассчитывал.
Борух, сидевший за экономические преступления, пользовался как уголовник, а не политический доверием лагерного начальства. Попав на зону, он отставил в сторону все религиозные предписания, которых придерживался на свободе, — к «мракобесам» здесь относились плохо. Поэтому о его деятельности в качестве габая синагоги никто не знал. А как уголовника, притом честно и добросовестно работающего, его даже уважали, поскольку на него можно было положиться. Странно тасовались судьбы, удивительно ложилась карта в лагере. Все здесь отличалось от жизни на гражданке. Настолько отличалось, что осужденный за воровство считался в этих местах человеком порядочным и надежным. Борух никогда ничего на зоне не украл, вел себя прямо и честно, хотя сидел за растрату, то есть за кражу у государства. И немалых, очень немалых сумм. Но украсть у государства, ограбившего всех, укравшего у всех и свободу, и достаток, по неписаному правилу было не так страшно, как украсть ломтик хлеба у товарища на зоне. Поэтому лагерное начальство доверило Боруху очень важную работу, для которой требовались и честность, и надежность, и порядочность — без них человек быстро проворовывался. Боруха назначили главным хлеборезом, ответственным за распределение хлеба по отрядам. С вечера он получал от бригадиров списки тех, кто завтра выйдет на работу, с указанием пайка и всю ночь готовил порции, чтобы к утру, перед уходом бригад на лесоповал, выдать каждой ее пайку в точном соответствии с указаниями бригадиров. Работа эта была в прямом и в переносном смысле хлебная. Кроме того, трудиться нужно было в теплом, закрытом от всех помещении, куда хлеборез имел право не пускать никого. Даже солдатам дозволялось войти в святая святых только с разрешения вышестоящего начальства.
И в этот рай Борух взял Генеха. Сам он не справлялся с таким количеством работы, ему требовался помощник, который нарезал бы хлеб, а Борух занимался бы только подсчетами. Ошибиться было нельзя, поэтому их следовало производить с величайшей тщательностью и вниманием. Совмещать это занятие с резкой, развешиванием и формированием пайков для каждой бригады было невозможно. Борух, знавший по прошлой жизни честность Генеха и слышавший, за что посадили парня, был рад такому помощнику. Все предыдущие выдерживали недолго — начинали воровать хлеб, менять его на водку, напиваться и буянить. А про этого парня, осужденного за религиозное мракобесие, Борух знал точно: воровать и дебоширить он не станет. Ну будет молиться в углу склада — кому это мешает? Никто, кроме Боруха, этого не увидит. Зато парень будет держаться за место зубами, не позволит себе ни малейшего нарушения и ни в коем случае не проболтается о том, кем был Борух на свободе.
После шахты, больнички и лесоповала Генеху казалось, что он очутился в Ган Эдене. Ночью вместе с Борухом он готовил пайки, утром Борух выдавал их. И можно было потом весь день спокойно спать на кровати на складе, варить себе суп или кашу в новой кастрюльке, которую всемогущий Борух раздобыл для Генеха. И учиться. Борух не только не мешал, а с удовольствием слушал, как Генех вслух повторял майморим Ребе и страницы Гемары.
Зная, что Генех парень не только честный, но и смекалистый, Борух начал поручать ему бухгалтерию. Как оказалось, помимо непосредственных обязанностей, начальство взвалило на него еще и помощь лагерному бухгалтеру. На эту должность устроил чуть ли не главного лагерного придурка сам «кум». Было понятно, какие услуги он оказал или продолжал оказывать «куму», но в бухгалтерском деле разбирался плохо, и отчеты приходилось проверять и перепроверять, прежде чем отправлять по инстанции. Борух, многие годы занимавшийся не только армейским снабжением, но и составлением квартальных и годовых отчетов, стал для начальства настоящей находкой. Бухгалтерскую науку Генех, обладавший умом, отточенным на талмудических спорах и анализе вариантов мнений мудрецов и постижении глубин хасидской философии, постигал легко и быстро. Спустя несколько месяцев, когда парень немного поднаторел, Борух стал перекладывать на него все больше нехитрых, но нудных и очень ответственных расчетов.
Иногда они отправлялись на разные точки — отвозили хлеб, баланду, бидоны с кашей и борщом для конвоиров. Для этой цели у Боруха была телега, он брал у коменданта лагеря лошадку, и они, загрузив бидоны и продукты в телегу, выезжали за пределы лагеря. Никто их не конвоировал, бежать в этих местах было некуда: вокруг на сотни километров леса да болота. Ехали не спеша, Борух лошадку не погонял, и плелась она до ближайшего пункта почти два часа. Когда же Генех стал достаточно хорошо ориентироваться на местности, Борух начал отправлять его одного.
Дорога всегда была пуста, впритык к ней стояли высокие деревья. Летом в лесу пели птицы, зимой мелодично хрустел снег под копытами. Можно было остановить лошадку и полчаса погулять в лесу — в поисках грибов и ягод. Их в этих суровых местах было немного, но они для не видевшего овощей и фруктов зэка представляли собой царское лакомство. Все, что удавалось набрать во время поездок, Генех ел только по субботам, сказано ведь: «Помни день субботний, чтобы святить его». Все это создавало пусть обманчивое, но ощущение свободы и умиротворения. И пребывание в лагере начинало казаться вовсе не таким уж страшным.
Но всему хорошему рано или поздно приходит конец. В этом Генех не раз убеждался на своем лагерном опыте. Кому‑то не понравилось, что хлеборезкой заправляют два еврея. Последовал донос начальнику лагеря, что в хлеборезке устроили синагогу и воруют хлеб в огромных количествах. «Кум», хорошо знавший Боруха, доносу не поверил. Да и нужен был ему Борух, ведь именно он прикрывал на посту лагерного главбуха его ставленника. Но для Генеха, которого он решил сделать козлом отпущения, суд был кратким и жестоким. Подняв его дело, «кум» решил не держать на одном из лучших мест в лагере человека, осужденного по такой статье. Это был приговор. Смертный. После него Генеху оставалась только одна дорога — работать до полного изнеможения и умереть от пеллагры.
После года пребывания в лагерном раю Генеха опять бросили в ад — на лесоповал. Спустя год он опять превратился в доходягу, и его снова отправили в «колхоз». Но приговор «кума» работал: стоило Генеху немного набраться сил, как его перевели в каменный карьер.
Здесь его поставили на опасную и тяжелую работу — вырубать каменные блоки из скалы и оттаскивать их в сторону. Для этого требовались немалые умение и сноровка, которых у Генеха не было. И спустя короткое время после начала работы в карьере он не успел увернуться от свалившегося с вершины скалы камня.
В лагерную больницу его доставили с перебитыми в нескольких местах ногами и руками. Вольного врача в тот день не оказалось, оперировал Генеха фельдшер‑зэк. Он, собственно, на свободе был ветеринаром, но на зоне сумел зацепиться за место в больничке. Фельдшер возился с Генехом полдня, и после операции тот был покрыт гипсом с ног до головы. Из‑за авитаминоза и общей слабости организма кости срастались медленно. А когда срослись, оказалось, что фельдшер плохо выровнял правую ногу перед тем, как наложить гипс. Срослась она неправильно и оказалась короче левой на шесть сантиметров. Без костылей Генех не мог ступить и шагу. Врач решил сделать ему новую операцию — сломал ногу и вновь составил кости. Но на этот раз уже более правильно.
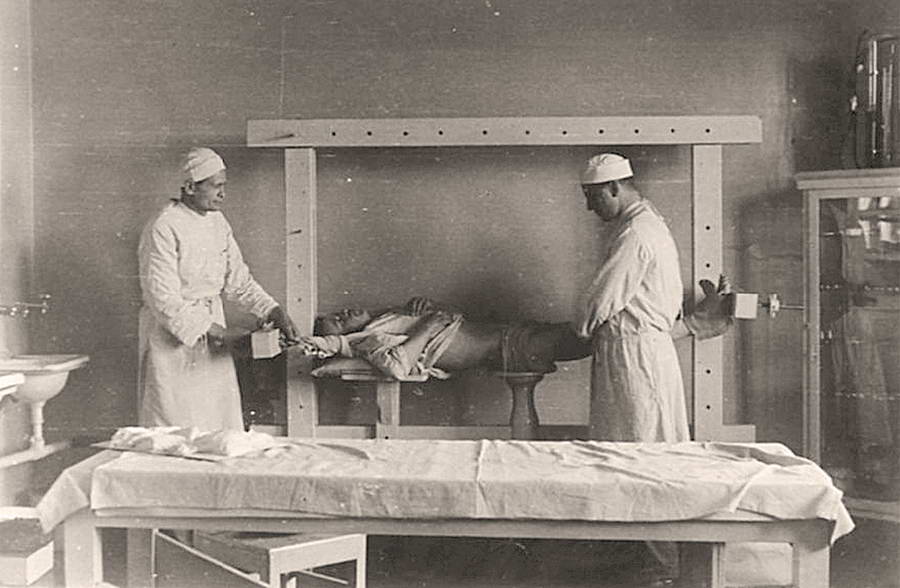
В лагерной больничке операции делались без наркоза и даже без водки, которой его порой заменяли. Слишком уж ценным был этот продукт на зоне, чтобы расходовать его на анестезию для зэков. Терпи — или умирай, твое дело. И Генех терпел. К его превеликой радости, нога срослась намного лучше, теперь он мог ходить, хоть и очень сильно прихрамывал. Хромота эта в определенном смысле спасла Генеха. Если бы он полностью выздоровел, то его — врага народа — неминуемо вновь отправили бы в шахту, на лесоповал или карьер. И кто знает, вышел ли бы он оттуда еще раз живым. Срастание костей и новая операция длились полтора года. После того как лечение было завершено, стало понятно, что Генех, передвигавшийся с помощью палки, превратился в инвалида. В начале 1947 года его комиссовали и отправили на поселение в Маргилан.
Возвращение к жизни
Жители Маргилана гордились древней историей своего города и даже будто бы находившейся в нем могилой Александра Македонского. Когда Генех оказался в Маргилане, то была глубокая провинция Узбекистана с населением в несколько десятков тысяч человек. Промышленности в нем не было никакой — так, мастерские да пара маленьких заводиков. Не зря эту глухую дыру — даже по понятиям Узбекистана — сделали местом поселения бывших заключенных.
Впрочем, Генеха все это совершенно не интересовало. После лагерного ада вольная жизнь в любом месте казалась ему счастьем: спать в своей постели, не просыпаться от окриков надсмотрщиков, не ходить на работу, высасывавшую из него все силы и на которой он ежедневно рисковал жизнью, — это было блаженством! Да и с гастрономической точки зрения он давно уже так не жил — обзавелся новой посудой и варил себе супы и каши, жарил рыбу на сковородке. А что уж говорить про фрукты и овощи — в лагере он видел только полугнилые картошку да свеклу! Грибы и лесные ягоды, которые он собирал во время работы у Боруха, были не в счет. Сколько их он успел насобирать? Да и длилось это счастье всего несколько месяцев. Здесь же он покупал на базаре огромные и вкуснейшие помидоры, лук, огурцы, арбузы и дыни. Они были в таком изобилии и так дешевы, что из лакомства стали обычной и привычной частью ежедневного рациона бывшего лагерника. Генех мог позволить себе это удовольствие — он сразу же устроился на работу в бухгалтерию одного из местных заводиков. Честно говоря, навыков, приобретенных у Боруха, не очень‑то хватало, но в Маргилане даже таких специалистов нельзя было сыскать. Оклад, пусть и небольшой, позволял снять отдельную комнату и ежедневно наслаждаться дарами узбекской земли. Ощущение почти полной свободы делало его жизнь радостной и счастливой. Он хоть и не имел права покидать Маргилан, но по городу и близлежащим деревенькам перемещался беспрепятственно. И, главное, он не должен был отмечаться в милиции — ни раз в неделю, ни раз в месяц!
Но когда первые восторги прошли и свобода да проживание с питанием превратились в рутину, Генех затосковал. Еврейской общины в городе не было. Может, где‑то и жили бухарские евреи, но чужака, да еще и бывшего зэка, они к себе не подпускали. Единственный бухарский еврей, с которым он познакомился в Маргилане, оказался хирургом городской больницы. Он сделал Генеху еще одну операцию на правую ногу, да так удачно, что Генех выбросил палку. Он продолжал прихрамывать, но совсем немного. Впрочем, эта легкая хромота, оставшаяся у Генеха на всю жизнь, не мешала ему. Других контактов с бухарскими евреями у него не случилось, и, находясь в одиночестве, Генех вновь начал искать ответы на вопрос, никогда не оставлявший его: «Если я только для себя, то зачем я?» Он часто вспоминал слова Ребе Раяца: «Соблюдение заповедей, любой хороший поступок и даже мысль о том, чтобы исполнить какую‑то заповедь, приводит к тому, что Б‑жественный свет еще больше раскрывается в нашем мире». Вспоминал и искал в них утешения, оправдания тому, какую жизнь он ведет в Маргилане.
И вдруг он столкнулся на базаре с религиозным евреем. Они сразу вычислили друг друга — по нестриженой бороде, кепке. Да и по еврейским глазам.
— Ма ата осэ кан? («Что ты тут делаешь?») — как бы невзначай спросил Генех, подойдя к незнакомому мужчине, торговавшемуся с продавцом урюка. Расчет его был прост: если это нееврей, то не обратит внимания на короткую фразу. Но если Генех не ошибся, то вопрос на иврите станет паролем. Он не ошибся: мужчина оказался хабадником из Ташкента, приехавшим в однодневную командировку. Весь день он провел на работе и перед отъездом заскочил на несколько минут на рынок, чтобы купить знаменитый маргиланский урюк. Оба расценили эту встречу как знак свыше. Хабадник рассказал, что в Ташкенте существует в подполье большая и крепкая хабадская община. «Нечего тебе гнить здесь, — сказал он на прощание Генеху, — приезжай в Ташкент. Город большой, сумеешь и спрятаться, и устроиться». И записал свой адрес.
Генех размышлял недолго — он задыхался в Маргилане без еврейского воздуха. На зоне у него были серьезные обоснования, почему он должен мучиться, но терпеть: соблюдая там Тору, он делал важное дело для всех евреев. А какое дело он делал здесь? Страданием жизнь провинциального бухгалтера назвать было сложно. Многие вокруг, так называемые свободные люди, жили еще хуже. У него были и уважаемая, неплохо оплачиваемая работа, и собственная комната с чистой постелью, и хорошее, сытное и разнообразное, кошерное питание. Но Генех не мог жить без идишкайта, без того, чем он занимался вот уже многие годы, — помощи в его сохранении. Делать это в Маргилане сегодня он не мог. И не было никакой надежды, что сможет в будущем: евреям, и уж тем более хасидам, в Маргилане взяться было неоткуда. Но, с другой стороны, отъезд из места, определенного ему властью для проживания, был серьезным нарушением закона и грозил большими неприятностями. Это пугало и сдерживало. Однако после нескольких дней раздумий и размышлений Генех решился. Дальше лагеря не пошлют, а здесь, в Маргилане, его ждала неминуемая духовная смерть.
В Ташкенте его приняли радушно. Город действительно был огромный, и затеряться в нем труда не составляло. Но — затеряться. А Генех хотел не просто есть и пить, но и продолжать свою деятельность — и как бывший томим, и как глава ешивы. Когда он поделился своими планами, то у всех хабадников ответ был один: его место в Самарканде. Там действует подпольная ешива, в которой он сможет реализовать свое желание.
В Самарканде Генех поселился в доме семьи Мишуловиных. Приехал он поздно ночью и за год пребывания в городе ни разу не вышел за пределы двора. Правда, двор у Мишуловиных был огромный. Там росли фруктовые деревья и виноград, имелись грядки с помидорами, огурцами и дынями. Высокий глинобитный забор отделял двор от улицы, и прогуливаться по нему, дыша свежим воздухом, было и приятно, и безопасно. День Генеха был расписан по минутам. С раннего утра и до позднего вечера к нему приходили группы учеников подпольной ешивы: чтобы не привлекать внимания, они были малочисленны и состояли из двух‑трех мальчиков. Закончив урок, группа уходила, и тут же — по одному, чтобы не бросаться в глаза, — появлялись члены следующей. Генех был счастлив — тем, как много у него вдруг оказалось учеников, с каким вниманием они слушали, какие умные вопросы задавали. Мальчики учились от всего сердца и всей души, напоминая Генеху его самого и его товарищей в молодости. Впрочем, о какой молодости шла речь — ему ведь было‑то всего двадцать семь лет!
Главной причиной счастья было то, что он ничего не забыл. Годы в лагере сказались на его здоровье — побаливало сердце, перед дождем ныли многочисленные переломы. Но знания, приобретенные во время занятий в «Томхей тмимим», остались с ним. Только теперь Генех понял, какое огромное значение имел для него взятый на себя ежедневный зарок — даже в самых тяжелых условиях полчаса‑час перед сном повторять майморим и споры мудрецов Талмуда. Благодаря этому зароку, а также повторяемым им каждый день Теилим ум остался цепким, а память ничуть не пострадала.
Большего он не мог и желать. Материально его жизнь даже по сравнению с Маргиланом резко улучшилась — в семье Мишуловиных женщины готовили замечательно. Здесь иногда подавали совсем позабытое им за годы заключения кошерное мясо. А уж про духовную атмосферу и говорить было нечего: он каждый день молился в миньяне! Каждый день проводил пять‑шесть уроков, каждый день — ложась и вставая — жил как настоящий хабадник.
В октябре 1948 года МГБ СССР и Генеральная прокуратура выпустили директиву, гласившую, что всем заключенным, уже отбывшим наказание и находящимся на свободе, или условно‑досрочно освобожденным, предъявлялось обвинение по тем же статьям, в соответствии с которыми они были осуждены в прошлом. В народе эта директива получила название «указ о повторниках». Десятки тысяч людей вновь арестовали, осудили и отправили в лагеря.
Генех перестал спать. Генех не мог есть, с трудом проводил уроки. Это в Маргилане он хорохорился — дальше лагеря не пошлют. А сейчас, когда перспектива вновь оказаться в этом самом лагере вдруг стала реальной, Генех совершенно отчетливо понимал: еще один срок он не выдержит. Жизнь у Мишуловиных была прекрасной, но вечно продолжаться она не могла. Рано или поздно его найдут и осудят, прибавив к прежним десяти годам еще и наказание за бегство из Маргилана. Перспектива смерти вдруг нависла над ним, и он понял: необходимо что‑то менять. Срочно и кардинально.
И Генех отправился во Фрунзе. Здесь жил брацлавский хасид, виртуозно изготовлявший паспорта и военные билеты. Стоили они шесть тысяч рублей, то есть десять среднемесячных зарплат. Таких денег Генех в глаза не видывал со времен руководства ешивой. Помогли самаркандские хабадники, всей общиной собравшие эту огромную сумму. И вскоре Генех Рапопорт превратился в Меира Райпорта — холостого, несудимого, имевшего в паспорте фрунзенскую прописку. Военный билет свидетельствовал, что из‑за многочисленных переломов, полученных в детстве, Меир Райпорт освобожден от военной службы. Теперь можно было начинать новую жизнь.
Возвращаться в Самарканд было опасно: хоть и просидел он год взаперти у Мишуловиных, но общался с людьми, приходившими на миньян, активно, и многие слишком хорошо его знали, да и в Ташкенте тоже. Нужно было уехать подальше от Средней Азии и затеряться в большом городе европейской территории СССР, где существовала еврейская община. Первым делом он отправился в Киев, надеясь разыскать кого‑то из своей большой семьи. И быстро выяснил, что родители с двумя его братьями и тремя сестрами лежат в Бабьем Яру. От всей семьи теперь остались только три брата — он, Йехиэль‑Михл, отбывший к тому времени второй срок и каким‑то чудом сумевший прописаться в Ленинграде, и Авроом. Со временем Йехиэль‑Михл стал тайно работать шохетом и обеспечивал евреев города кошерным мясом. Незадолго до отъезда в Израиль он подготовил к бар мицве Изю Когана — будущего «праведника из Ленинграда» и главу московской синагоги на Большой Бронной.
В Англии жил самый старший брат — Авроом. О его существовании Генех знал чисто теоретически: Авроом еще в 1923 году покинул СССР и осел в Лондоне. К моменту его отъезда Генеху было два года, и никаких воспоминаний о старшем брате, даже смутных и отрывочных, у него не сохранилось. После ареста Генех о нем ничего не слышал.
Остаться в Киеве он не смог — здесь все слишком напоминало о детстве, о семье. Сердце рвалось от боли, когда он думал, что случилось с самыми дорогими ему людьми. В Ленинград он тоже ехать не мог — с братом он рано или поздно, но обязательно встретился бы. А за дважды осужденным по антисоветской статье религиозным «мракобесом», конечно, следили. И тогда даже новый чистый паспорт не помог бы. Оставалась Москва — колоссальный город с большой и дружной хабадской общиной.
Окончание следует
Комментариев нет:
Отправить комментарий