И сердце навсегда разбито
12 июля исполняется 120 лет со дня рождения писателя и художника Бруно Шульца
Материал любезно предоставлен Jewish Review of Books
В 2019 году одна молодая украинская исследовательница набрела на дотоле неизвестный рассказ польского еврейского писателя Бруно Шульца. Он был опубликован под псевдонимом в самом неожиданном издании — газете нефтяной отрасли «Рассвет: газета нефтепромышленников» (к этому бизнесу имел отношение брат Бруно Шульца Изадор).
Ныне рассказ «Ундуля», впервые увидевший свет в 1922 году и найденный лишь спустя почти 100 лет, впервые вышел по‑английски, в переводе Фрэнка Гарретта. Герой‑рассказчик заточен в своей комнате. Время — и то замедляется, просачиваясь сквозь «горсть бледных, попусту растраченных ночей». Вот первая фраза рассказа: «Должно быть, миновало уже несколько недель или месяцев с тех пор, как меня заперли в изоляции. Раз за разом то погружусь в дремоту, то сам себя вновь растормошу, и фантомы реальной жизни перемешиваются, расплываясь, оборачиваясь усыпляющими фикциями». Шульцевский сновидец, созерцая, как подкравшиеся тени «вытягивают свои длинные шеи и заглядывают мне через плечо», вызывает из своего воображения облик Ундули, «очаровательно запрокидывающей голову и кренящейся набок… в черном шифоне и нижнем белье», и фантазирует о том, как униженно склонится перед ней:
Благодаря вам, в теплой дрожи наслаждения, я познал свое убожество и уродство, высвеченные вашим совершенством. Как сладко было прочесть с первого же взгляда вердикт, на веки вечные обрекающий меня покоряться с глубочайшим смирением мановению вашей руки, одним ударом прогнавшей меня из‑за ваших пиршественных столов. Поступи вы иначе, я усомнился бы в вашем совершенстве.
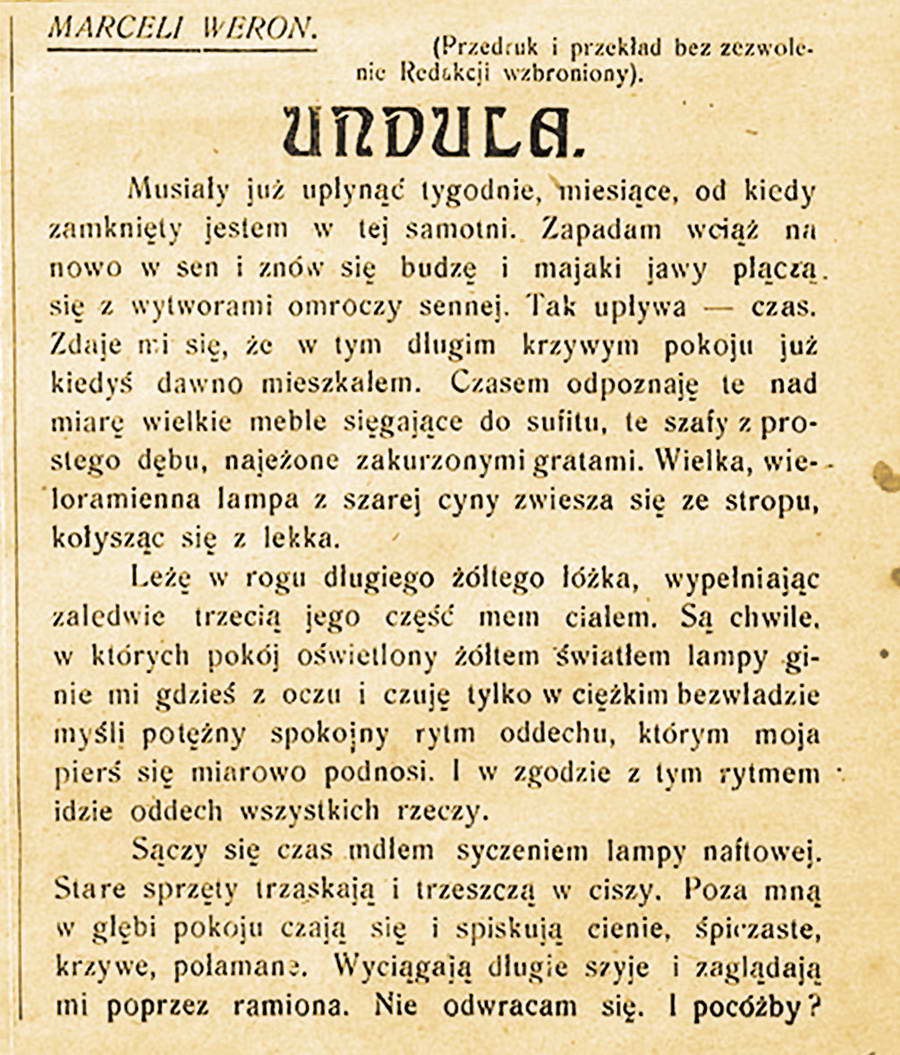
В ноябре 2019 года в Дрогобыче, родном городе Шульца, я встретился с Лесей Хомич, открывшей миру «Ундулю». Находка литературного дебюта Шульца была сродни откровению, рассказала она. «Я подумала: “Это же Шульц!” Эта мысль буквально не давала мне покоя. Появилось ощущение, что я совершила невероятное открытие, но одновременно накатывали сомнения и колебания. Возможно ли это на самом деле? 1922 год? Отчего вдруг [Шульц взял псевдоним] Марцелий Верон? Я перечитывала рассказ снова и снова… Очевидно, в нем есть мотивы и образы, столь характерные для его творчества. Должна признаться, я задавалась вопросом: может быть, этот рассказ написал кто‑то другой, подпав под влияние графических работ Шульца? Но совпадение нескольких точек пересечения было слишком очевидным. Версию о том, что Шульцу кто‑то подражал, я исключила: ведь на тот момент его литературные произведения все еще оставались неизвестными».
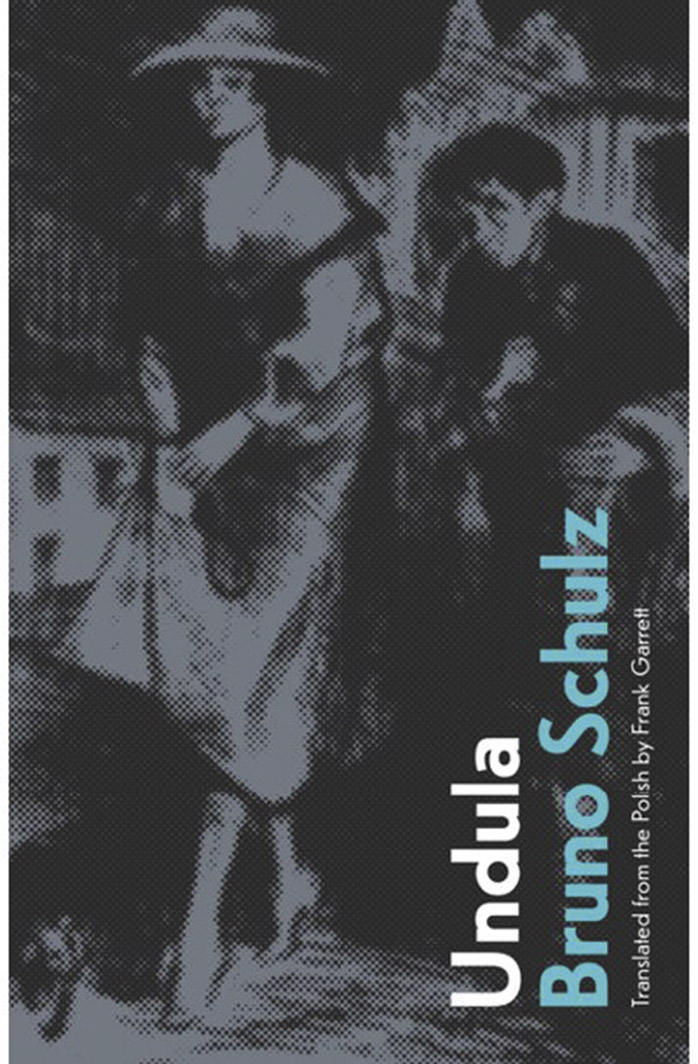
Bruno Schulz
Undula
Ундуля
Translated by Frank Garrett. Sublunary Editions, 2020. 42 p.
История о том, как проза Шульца получила известность, начинается летом 1930 года со встречи двух еврейских модернистов — женщины, писавшей на идише, и мужчины, писавшего на польском. Бруно Шульц, 38 лет, скромный учитель гимназии из галицийского города Дрогобыч, приехал в курортный городок Закопане, прозванный зимней столицей Польши, в поисках «единоличной певучей тишины — с замершим под собственной тяжестью маятником часов и ясной линией пути, не затемненной ничьим посторонним воздействием» . Он производил впечатление человека, старающегося остаться в тени. Один бывший ученик вспоминал: «Идя, он заворачивал к стене, двигался по косой линии, чуть ли не бочком, опустив голову, всем уступая дорогу».

Польский художник С. И. Виткевич (он же Виткаций) написал (впоследствии утерянный) портрет Шульца, изобразив его с причудливым рыбьим хвостом. Презрев желание Шульца не отвлекаться на посторонние воздействия, Виткаций познакомил его с Деборой Фогель: она была авангардным поэтом и художественным критиком, ей тогда было 30 лет, в Закопане она приехала позировать Виткацию для портрета. Фогель, прозванная блуждающей звездой идишской литературы, родилась в семье галицийских маскилим . Ее отец Аншель был гебраистом, мать Лея — учительницей, а дядя Маркус Эренпрайс — главным раввином Софии, столицы Болгарии, а затем Стокгольма, столицы Швеции. Поддавшись духу странствий, Фогель ездила учиться в Вену, Львов и Краков, часто бывала в Париже, Берлине и Стокгольме.
При переписи 1931 года в Польше более 80% из 3 млн евреев в стране назвали своим родным языком идиш. Шульц не принадлежал к их числу; он не умел читать на идише. Однако тем летом Фогель и Шульца связала глубокая привязанность — интеллектуальная и эротическая. «Ведь наши прежние разговоры и наш контакт, — написала ему позднее Фогель, — были одним из тех немногочисленных чудесных явлений, какие случаются единственный раз в жизни, а может быть, только раз на сколько‑то безнадежных, бесцветных жизней» .

В другом письме Фогель намекала на хасидскую легенду о 36 тайных праведниках, на которых держится мир: «Мы пишем стихи и статьи, мы трудимся, как ламед‑вовники , и в один прекрасный день… мы сами себя откроем, даже если никто не придет из большого мира, чтобы открыть нас». К сожалению, произведения Фогель доселе оставались практически неизвестны англоязычному читателю. В ценнейшем новом сборнике «Цветущие пространства» Анастасия Любас, научный сотрудник Университета Торонто, наконец‑то спасла Фогель, долгое время находившуюся в тени Шульца, от забвения, восстановила оборванные нити преемственности, соединяющие ее с нами, и привлекла к ней внимание, соразмерное всему размаху талантов Фогель.
Переводы Анастасии Любас, прекрасно передающие мелодику оригинала, впервые знакомят нас не только с пространными подборками стихов из трех книг Фогель, но и с ее статьями — а среди них много остро полемичных — о фотомонтаже и литературном монтаже, об абстрактном искусстве, о художнике Марке Шагале (его Фогель знала лично), о расизме и антисемитизме («Люди, подвергнутые экзорцизму»), о роли интеллектуалов, а также об истории секулярной идишской литературы в Галиции. Эта литература представляла собой относительно молодую традицию, «которую начали, — пишет Фогель, — и долгое время культивировали женщины‑поэты, а они, как правило, не имели доступа к ивриту и философии Талмуда».
Свой первый рассказ «Мессия» Фогель опубликовала в 19 лет. В год знакомства с Шульцем она выпустила «Фигуры дней» — свой первый сборник стихов: они были написаны верлибром и на идише, начала работу над вторым сборником «Манекены». Ее стихи — лаконичные, написанные словно бы кистью живописца, стремились, как говорила сама Фогель, к «лирике холодного состояния покоя и геометрической орнаментальности со всей ее монотонностью и ритмом возвращения». Свои идишские стихи она посвящала «шунд»: литературе простаков, пошлой массовой культуре и китчевым безделушкам. В одном из циклов стихов — он называется «Низкопробные баллады» — фигурируют уличные проститутки, парижские бродяги, а также — смотрите ниже для примера стихотворение 1933 года, — разбитые сердца и бульварное чтиво:
И так все и было,
Как пишут в плохих романах
С выдуманными смешными судьбами…
Он так и остался, как всегда,
Самым красивым воспоминанием в ее
жизни.
И был он, как всегда,
Самым большим несчастьем ее жизни.
Ни с ним жить не могла, ни без него…
Зачем ты разбил мое сердце?
И сердце навсегда разбито,
Как пишут в плохих романах…
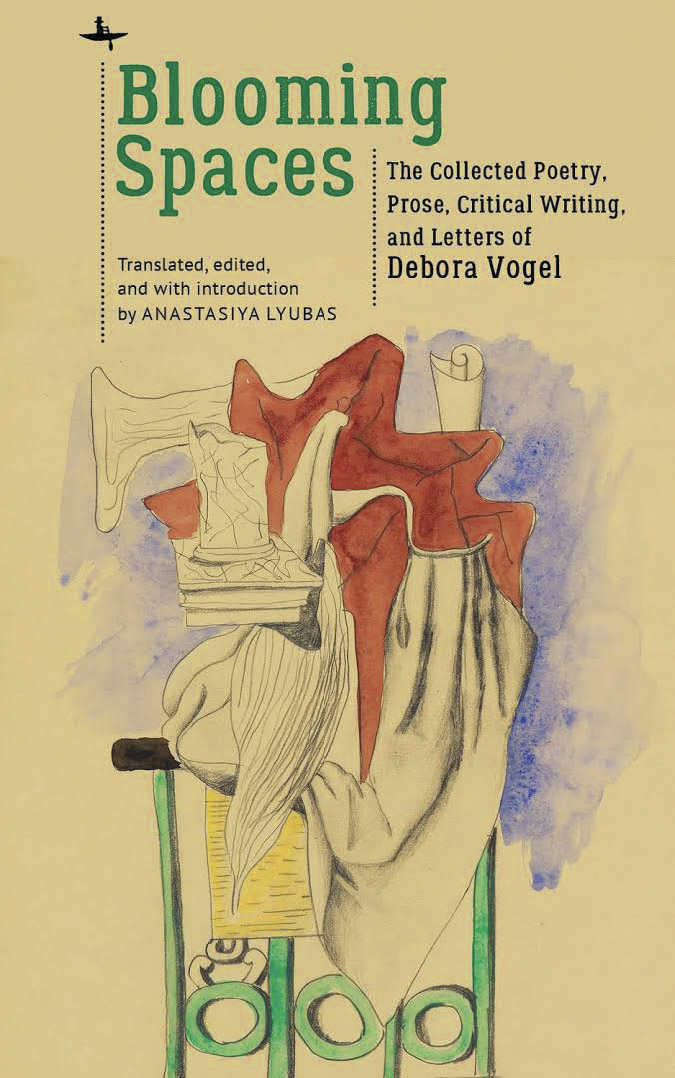
Blooming Spaces: The Collected Poetry, Prose, Critical Writing, and Letters of Debora Vogel
[Цветущие пространства: собрание стихов, прозы, критических статей
и писем Деборы Фогель
Translated and edited by Anastasiya Lyubas. Academic Studies Press, 2020. 436 p.
Стиль Фогель отражал ее широчайшую эрудицию — она читала на идише, польском, немецком и иврите. Идишский поэт и эссеист Мелех Равич заметил: «Каждое слово, написанное Деборой, подпирают, как минимум, три прочитанные ею книги. Она знала несколько языков, и всеми владела так же свободно, как родным. Но только в случае маме лошн она понимала все нюансы и говорила на нем так, что чувствовалось: она готова учиться ему все больше и больше, с огромной преданностью и любовью».
«Это не художественные произведения, — говорила Фогель Равичу о своих стихах, — не поверхностные “эксперименты”, а выдержки из жизни и опыта, доставшиеся мне дорогой ценой».
Эти выдержки не шли на успокоительные уступки общепринятым вкусам. Исаак Башевис Зингер вспоминал: «…более консервативные поэты высмеивали и передразнивали ее темный стиль. В этих кругах к женщинам с ученой степенью доктора философии относились очень подозрительно». Аскетичная и бесстрастная холодность ее стихов приводила в замешательство некоторых читателей. «Я привыкла к тому, что мной пренебрегают те, кто невежествен в поэзии» , — писала Фогель Шульцу.
Переходя от серьезности к легкомысленности и обратно, Фогель экспериментировала с «методом одновременности» (симультанишкейт), как сама его называла, в котором «оттесненные на обочину, “незначительные” события приобретают такое же важное значение, как и “грандиозные”, героические события жизни». Свою последнюю книгу, сборник прозаических произведений «Акации в цвету», Фогель назвала романом‑монтажом. В рецензии Шульц восхитился умением Фогель сделать так, чтобы людские судьбы выразились только «после того, как пройдут сквозь тысячи сердец, когда станут обесцвеченными, безличными и типичными, — разменными монетами, анонимными, стершимися и банальными формулами». Тем самым, добавляет Шульц, Фогель улавливает «звучание и сладость банальности».
Спустя год после знакомства Шульц предложил Фогель руку и сердце. Ее мать воспротивилась браку. По словам Рахели Ауэрбах, близкой подруги Фогель, «Шульц, склонный к депрессии ипохондрик, согласился, конечно же, с ее мнением, что он неподходящий кандидат в мужья и отцы».

Фогель вышла замуж за инженера‑строителя Шалома Баренблюта. Хотя Шульц иногда останавливался в доме супругов Баренблют во Львове, его отношения с Фогель продолжались в основном в эпистолярной форме. Письма Шульца (утраченные во время войны), полные клокочущих сомнений в себе, одновременно очаровывали Фогель и не подпускали ее близко. («Прежде я жил только перепиской, — признавался Шульц другой женщине. — Тогда к этому сводилось все мое творчество».) Постскриптумы в письмах Шульца к Фогель — фантазии о Дрогобыче, где город был показан глазами ребенка, — становились все фантастичнее, отрывались от содержания самих писем все дальше, словно фигуры с полотна Шагала, парящие над крышами. Их длинные, вихреобразные фразы украшались метафорами, как мозаикой. Фогель показала их Рахели Ауэрбах, а та заявила, что их обязательно надо опубликовать. Ободренный Шульц переделал постскриптумы в сборник «Коричные лавки и другие рассказы»; книга эта сокровенно адресована одному‑единственному читателю — Фогель. Как он писал Виткацию: «В какой‑то мере эти “истории” истинны, они отражают мой образ жизни, мою собственную судьбу. В судьбе этой преобладает глубокое одиночество, отъединенность от повседневных жизненных забот» .
Взаимосвязанные рассказы, объединенные в сборник «Коричные лавки» и вторую книгу Шульца «Санатория под клепсидрой», выстроены вокруг фигуры отца, измученного жизнью торговца тканями: ослабев здоровьем, он «вечно парил на периферии жизни» и «объявил войну безбрежной стихии скуки, окостенившей город» , выращивая на чердаке птиц — экстравагантную коллекцию павлинов, фазанов и пеликанов. («Фогель» по‑немецки значит «птица».)
Повествование в рассказах идет от имени его сына Иосифа — мальчика с обостренным восприятием, одержимого фигурой отца; фактически Иосиф повествует, как в нем самом рождается художник. Пытаясь бежать от монотонности обыденной жизни, Иосиф ныряет в воображаемый и пока бесформенный мир, который творит себе сам, отдается упоению от обнаружения тайной жизни неодушевленных вещей — таких, как манекены, — и обогащает эту жизнь пышной мифологией, первобытной мощью и почти каббалистической идеей латентных возможностей того, что всего лишь материально.
При рождении Шульц и Фогель были провинциальными подданными агонизирующей империи Габсбургов, а затем — никуда не переезжая — стали жителями Западно‑Украинской народной республики, Второй Речи Посполитой (1918–1939), СССР (сентябрь 1939 года — июль 1941 года ) и, наконец, Третьего рейха. Их жизнь, начавшаяся под флагом с австро‑венгерским двуглавым орлом, оборвалась на «кровавых землях» .
В ноябре 1941 года Шульца вынудили переселиться в Дрогобычское гетто. Он разделил свои рукописи и рисунки на отдельные стопки и роздал их каким‑то людям, о которых в письме сообщил лишь, что это были «католики снаружи гетто». В одной из стопок был незаконченный шедевр Шульца, роман «Мессия», — его с тех пор так и не нашли. В августе 1942 года Дебора Фогель попала в число 15 тыс. евреев, убитых нацистами при ликвидации Львовского гетто, — как и ее муж Шалом, их шестилетний сын Ашер и ее мать. Тем временем Шульц, сопротивляясь своим дурным предчувствиям, никак не решался покинуть Дрогобыч. Варшавские друзья прислали ему поддельные документы «арийца» и уговорили назначить дату побега — 19 ноября 1942 года.
В рассказе Шульца «Гениальная эпоха» Йосиф воображает приход Мессии:
В такие дни Мессия подходит совсем уже к краю горизонта и глядит оттуда на землю. И когда он видит ее, белую и тихую, с голубизнами и задумчивостями, может случиться, что он разглядит рубеж, голубоватая череда облаков ляжет переходом, и, сам не ведая что творит, он сойдет на землю. И земля в задумчивости своей даже не заметит сошедшего на ее дороги, а люди очнутся от послеобеденного сна и не будут ничего помнить. Прошлое целиком окажется как бы вымарано, и все будет, как в правека, прежде чем началась история .
Спаситель опоздал. Незадолго до полудня 19 ноября — в тот самый день, на который планировалось бегство, в 30 метрах от дома, где он родился, Шульц получил пулю в голову во время одной из так называемых диких акций гестапо в Дрогобыче. Только что купленная им буханка хлеба пропиталась его кровью. Ему было 50 лет.
«Если бы Шульцу дали прожить жизнь сполна, — говорил Зингер, — он, возможно, даровал бы нам неописуемые сокровища, но и того, что он сделал за свою короткую жизнь, достаточно, чтобы он стал одним из самых замечательных писателей всех времен».

Судьбы Фогель и Шульца разошлись как при их жизни, так и после смерти. Фогель всегда чувствовала себя в тисках двойной маргинализированности: то, что она выбрала идиш, оставило ее «за бортом» европейской авангардной среды, а выбор авангардистского языка и образности — «за бортом» сфер, в которых пребывало большинство идишских писателей и читателей. Вдобавок ее творчество незаслуженно оттесняла на задний план тема ее отношений с Шульцем, как если бы Фогель была лишь музой, этакой акушеркой, помогавшей рождаться его произведениям. Интерес к Шульцу, напротив, не ослабевал. «В кругах молодых польских поэтов, к которым я принадлежал в конце 1930‑х, — вспоминал польский поэт Чеслав Милош, — имя Шульца окружала особая, волшебная аура». «Ибо разве под воображаемым столом, разделяющим нас, — спрашивает герой‑рассказчик Шульца в одном из рассказов, — не держимся ли все мы тайно за руки?» В Америке у Шульца нашлось еще больше, чем на родине, читателей, державшихся с ним за руки; перед ним преклонялась целая череда писателей — в том числе Филип Рот, Синтия Озик и Джонатан Сафран Фоер, — зачарованных его персональной мифологией. Озик (кстати, ее роман 1987 года «Мессия из Стокгольма» — упоительная дань памяти Шульца и его потерянного Мессии) назвала его одним из «тех писателей, которые выбивают нам глаза фонариками». В Польше межвоенного периода, охваченной брожением, было два противоположных движения, увлекавших за собой евреев, — точно два фонарика, иногда ослепляющие, освещали пути к современной культуре. Первый из этих импульсов — тот, что охватил Бруно Шульца, — вел вовне, к почти виртуозному владению польским языком, которому иногда сопутствовало самоутверждение, а иногда коленопреклоненное самоуничижение перед лицом идеализированной культуры большинства. Второй импульс — тот, который руководил Деборой Фогель, — побуждал углубляться в свой внутренний мир, чтобы придумать, как привить только что вырвавшемуся на свободу идишу новаторские методы европейского модернизма. И оба пути трагически оборвались из‑за вмешательства внешних сил. То, что Шульц и Фогель вообще встретились, — немалое чудо.
Оригинальная публикация: And the Heart Is Forever Broken
Комментариев нет:
Отправить комментарий