70 лет назад, 12 января 1948 года, сотрудниками МГБ был убит Соломон Михоэлс. Убийство было замаскировано под дорожное происшествие.

Дискутируя с Жоресом Медведевым[1].
И не только с ним
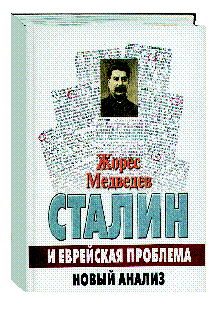
РАЗНОГОЛОСИЦА МНЕНИЙ
Если исследователь не обременяет себя работой непосредственно с архивными документами, то волей-неволей он вынужден доверять тому, что публиковалось еще до него. При этом он лишен возможностью выверить по первоисточникам утверждения предшественников. Примерно в такой ситуации оказался и Ж.А. Медведев, имевший в своем распоряжении книги различных авторов, считающихся достаточно авторитетными, но зачастую совершенно по-разному интерпретирующих одни и те же события. На неизбежно возникающий вопрос «кому верить?» Медведев, естественно, отнюдь не всегда мог дать однозначный ответ и потому вынужден был, в основном, ограничиваться констатацией существующих точек зрения. Впрочем, это не помешало ему в главном: определить на их основе и свою собственную позицию. Конечно, такой метод хорош тем, что позволяет синтезировать результаты предшествующего анализа фактов, но он чреват и поверхностностью, и эклектической размытостью оценок и может привести к различного рода аберрациям. Во всяком случае, отсутствие глубокой, на уровне первоисточников, критики давних публикаций исследовательского и мемуарного плана явно ощущается в книге. Особенно это очевидно, когда Медведев обращается к русской версии воспоминаний знаменитого разведчика П.А. Судоплатова «Разведка и Кремль. Записки нежелательного свидетеля» (М., 1996). Ведь в этой книге, несмотря на ее общую историографическую ценность, содержится немало ошибок и утверждений явно спекулятивного характера. Причем, значительная их часть как раз и приходится на главу, где сделана попытка реконструировать «еврейскую политику» Сталина, поскольку к ее выработке и проведению Судоплатов не был причастен. В лучшем случае, он мог судить о ней постфактум и лишь опосредованно – по толкам, циркулировавшим среди сослуживцев, по различным слухам.
Возьмем, к примеру, так называемые «спецоперации» (похищения и тайные убийства людей), проводившиеся по личному указанию Сталина внутри страны. К ним генерал-лейтенант Судоплатов, занятый по преимуществу внешней разведывательной деятельностью и террором за рубежом, не имел прямого касательства. Планирование и осуществление этих сверхсекретных акций (в них участвовал узкий круг особо доверенных лиц) находились исключительно в компетенции руководителя ведомства госбезопасности. В предвоенные годы – тогдашнего наркома внутренних дел Л.П. Берии, а в послевоенные – главы МГБ СССР В.С. Абакумова, несших личную ответственность перед Сталиным. Да и сам Судоплатов косвенно подтверждает существование такого порядка, когда рассказывает в мемуарах о ликвидации С.М. Михоэлса в январе 1948 года. Он так и пишет: «К моему счастью, к этой операции я не имел никакого отношения. Подробности убийства мне стали известны лишь в апреле 1953 года»1. Собственно, бывшему разведчику оставалось только повторить то, что уже было изложено в рассекреченной в 1992 году записке Берии Г.М. Маленкову от 2 апреля 1953 г. (частично опубликована в 1992 году в «Аргументах и фактах», № 19). Впрочем, он и те, кто ему помогал в подготовке мемуаров к печати, не ограничились простым пересказом содержания этого документа, а, с явной претензией на оригинальность, сделали от себя некое, в жанре исторического детектива, эффектное дополнение: перед тем как Михоэлс и сопровождавший его В.И. Голубов-Потапов были раздавлены грузовиком на территории дачи министра госбезопасности Белоруссии Л.Ф. Цанавы, им «сделали смертельный укол»2. Нереальность этой детали очевидна. По логике вещей, которая, как любил повторять Сталин, превыше человеческих желаний, убийцам совершенно ни к чему было прибегать к столь экзотической и к тому же, возможно, оставляющей следы (выявляемые при посмертном исследовании тела) «процедуре». К тому же она явно «не вписывается» в контекст буквально на ходу импровизировавшейся «спецоперации». Зачем, спрашивается, подручным Абакумова понадобилось бы связываться с ядом, что чревато дополнительными сложностями, когда, доставив свои жертвы в безлюдное место (на дачу Цанавы), они вполне могли обойтись одним «студебеккером», просто переехав несчастных?
Подобных прегрешений против исторической правды в воспоминаниях упомянутого советского супершпиона немало. Вместо того, чтобы максимально правдиво реконструировать прошлое, редакторы и издатели мемуаров прежде всего стремились, насытив текст впечатляющими сенсациями, получить в итоге бестселлер, гарантирующий коммерческий успех. Кстати, им вполне удалось этого добиться. Помню, как вскоре после краха коммунизма в СССР я, разыскивая материалы по истории советского еврейства в прежде секретных фондах бывшего Центрального партийного архива, встретил там своего рода продюсера судоплатовского бестселлера Джералда Шектера. Благодаря ему была осуществлена звукозапись воспоминаний советского разведчика, их литературная обработка и первая публикация (на английском языке) в Нью-Йорке в 1994 году. Она носила название «Special Tasks. Memoirs of an Unwanted Witness – A Soviet Spymaster» («Особые задания. Воспоминания нежелательного свидетеля – советского шпиона»).
Первым делом этот весьма импозантный джентельмен (темно-синяя элегантная тройка, старомодная массивная золотая цепь для часов поперек жилета) через сопровождавшего его переводчика Ф.А. Розенталя кратко, хотя и не без некоторого, почти неуловимого самолюбования, сообщил о себе то, что посчитал нужным: как еще в 1968 – 1970 годах возглавлял московское бюро журналов «Тайм» и «Лайф», организовал вывоз из страны рукописи мемуаров Н.С. Хрущева и издание их в США; как потом, при президенте Дж. Картере работал пресс-секретарем Совета национальной безопасности США… Поведал, что заканчивает работу над книгой о шпионском скандале века – деле Олега Пеньковского, советского полковника ГРУ, тайно сотрудничавшего с западными спецслужбами[2]. Перейдя затем плавно к цели своего визита в партийный архив, он заявил, что теперь занят новым издательским проектом, в связи с чем ему понадобятся, в частности, документы об отношении сталинского аппарата власти в 1940 – начале 1950-х годов к евреям и что в этом деле он рассчитывает на мою помощь. Я согласился на сотрудничество с Шектером и недели через две подготовил информационный обзор, где довольно подробно и со ссылками на архивные источники изложил содержание недавно обнаруженных мною наиболее важных документов по «еврейской политике» Сталина.
В этом обзоре было много нового, ранее не известного – в том числе цитировалось найденное мною знаменитое письмо С. Михоэлса и других еврейских лидеров советскому руководству с предложением создать еврейскую республику в Крыму. Однако из всего этого отнюдь не вытекало, что еврейский вопрос играл сколько-нибудь заметную роль в послевоенных советско-американских отношениях. Впоследствии, узнав, что полученную от меня информацию Шектер намеревался использовать при подготовке к изданию воспоминаний Судоплатова, я по выходе этой книги первым делом стал знакомиться с ее «еврейскими сюжетами». И, к сожалению, обнаружил, что мой скромный фактографический обзор если и был использован создателями книги, то всего лишь как трамплин для их заоблачных фантазий. По ознакомлении с этим бестселлером в целом сложилось впечатление, что в технологии его создания был использован следующий расхожий и незамысловатый прием: брался уже известный по предшествующим публикациям фактографический остов того или иного события и далее в канву реальных фактов «вплетались» различные красочные, но в значительной мере только похожие на правду подробности, выдаваемые за весьма ценную информацию, сохранившуюся в памяти мемуариста. Убедиться в этом конкретно читатель сможет ниже.
А пока детально рассмотрим версию убийства Михоэлса, представленную в книге Ж. Медведева. Последний, хотя и склонен во всем доверять Судоплатову, но, видимо, почувствовав фальшь в его рассказе о том, что перед тем как в ход был пущен грузовик, артисту была сделана инъекция яда, не включил данный пассаж в свою книгу, хотя раньше и воспроизводил его в своих работах3. Данная предосторожность более чем обоснована. Ведь Судоплатов не имел никакого отношения к ликвидации Михоэлса и потому мог только предполагать, как это произошло. И, разумеется, в этих предположениях исходил прежде всего из собственного опыта участия в аналогичных политических убийствах, четыре из которых, по его собственному признанию, были осуществлены с применением яда.
В основу собственной версии Медведев положил широко известную сейчас записку Берии Маленкову от 2 апреля 1953 года с выдержками из показаний арестованных главных организаторов и исполнителей этой акции – В.С. Абакумова, С.И. Огольцова, Л.Ф. Цанавы, а также милицейский рапорт, направленный 11 февраля 1948 года замминистра внутренних дел И.А. Серову и сообщающий о предварительных результатах расследования. Кроме того, Жорес Александрович использовал менее известный документ – оперативную информацию министра внутренних дел СССР С.Н. Круглова, уведомлявшую Сталина и других членов политбюро уже 14 января 1948 года, то есть на следующий день после обнаружения трупов Михоэлса и Голубова-Потапова, что смерть последних наступила «в результате наезда автомашины, которая ехала с превышающей скоростью и настигла их, следуя под крутым уклоном…»4 В этом чрезвычайно важном документе отмечено:«Около трупов имелось большое количество крови»; из показаний же Цанавы, приведенных в записке Берии, вроде бы следует, что Михоэлса и Голубова-Потапова вывезли с места убийства и подбросили на одну из окраинных улиц Минска только часа через два после их умерщвления. И Медведев, биолог, знающий, что зимой безжизненные тела кровоточат по времени куда меньше, чем летом, высказывает любопытное предположение: «Не исключено, что организаторы убийства, как профессионалы, позаботились о том, чтобы не только привезти на “глухую улицу” уже холодные трупы, но и обеспечить с помощью обилия крови правдоподобность случайного наезда»5.
В достоверности упомянутых официальных документов, а также Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1948 г. о награждении орденами «за успешное выполнение специального задания правительства» убийц Михоэлса Медведев, как и практически все историки-специалисты, не сомневается. Резко противоположного мнения придерживается разве что Ю.И. Мухин, редактор скандальной газеты «Дуэль», он же автор отпечатанного массовым тиражом «научно-исторического расследования» «Убийство Сталина и Берия». На страницах последнего с легкостью необыкновенной объявляются фальшивками все документы, так или иначе опровергающие настоянные на примитивной юдофобии нелепые домыслы этого историка-любителя о существовании некоего антисталинского «жидовского заговора»6.
И все же, поскольку Медведев имел дело в основном только с текстом записки Берии, документом, составленным из отдельных и местами противоречащих друг другу фрагментов показаний участников тайного преступления, ему не удалось избежать неверных выводов[3]. К сожалению, Жоресу Александровичу, видимо, просто не попались на глаза не так давно опубликованные первичные показания некоторых главных убийц Михоэлса – Огольцова, Цанавы, Шубнякова. Эти материалы, хотя в них и содержится очень важное признание Огольцова, касающееся подготовки и проведения «спецоперации» («документов никаких не составлялось, как положено в таких случаях»), тем не менее со значительно бо€льшей, чем раньше, точностью позволяют реконструировать обстоятельства гибели знаменитого артиста7.
Не знакомился Медведев, по всей видимости, и с другим недавно увидевшим свет важным свидетельством. В противном случае он не написал бы, что предпринятый милицией по горячим следам поиск грузовика, переехавшего Михоэлса и Голубова-Потапова, так и не дал «никаких результатов». Кое-какие результаты все-таки имелись. Вот что вспомнил не так давно генерал-полковник С.С. Бельченко, нарком (министр) внутренних дел Белоруссии в 1943 – 1953 гг.:
«Рано утром у разрушенного в годы войны стадиона “Динамо” оперативники моего ведомства обнаружили трупы Михоэлса и Голубова. Об этом мне доложил по телефону мой заместитель, комиссар милиции Красненко. Михоэлс находился в Минске по общественным делам. Это известие очень встревожило меня. Убийство было не рядовое.
Я сам лично выехал на место происшествия. Там вовсю шли следственные действия. Был составлен протокол осмотра. На трупах и на дороге (был снег) отчетливо виднелись отпечатки протекторов шин автомобиля.
Приехав к себе, я вызвал всех своих заместителей и в жесткой форме потребовал в кратчайшие сроки найти машину, послужившую причиной смерти этих людей.
Уже во второй половине дня Красненко мне доложил, что оперативники МВД обнаружили разыскиваемый автомобиль. Когда же я стал его расспрашивать, как проходил поиск и где обнаружили машину, мой заместитель ответил, что автомобиль стоит в гараже МГБ республики. Я поинтересовался, не могло ли это быть ошибкой. Красненко сказал, что его люди тоже сомневаются, но им не дали провести более тщательную проверку сотрудники госбезопасности.
Заподозрив неладное, я позвонил министру внутренних дел СССР С.Н. Круглову и доложил об этом происшествии. Он был страшно удивлен и приказал мне активизировать розыск преступников. Мне ежечасно докладывали, как проводится розыск.
Меня вызвали в ЦК, и один из секретарей попросил принять все меры по розыску убийц. Встал вопрос об отправке трупов в Москву. Я поручил заниматься этим Красненко. Вскоре подъехал и Цанава. Я его хорошо знал, и поэтому его поведение меня удивило. Он был слишком любезен со мной. Цанава взял меня под руку, отвел в сторону и сказал: “Я знаю, что твои люди были у меня в министерстве в гараже. Это была не слишком хорошая идея. Я прошу тебя не производить больше каких-либо действий против моих людей. Население может нехорошо подумать о нас. Делом занимайся, убийц ищи, но не лезь ты, куда тебя не просят”. Подозрения мои еще больше усилились.
Из министерства я снова позвонил Круглову и доложил о том, что в гараже МГБ Белоруссии была обнаружена машина, переехавшая Михоэлса и Голубова. Министр выслушал меня и сказал, чтобы поиск преступников продолжали, но не особенно популяризируя это дело. Вообще голос у Круглова был какой-то вялый, и я удивился, что начальник не стал, как это бывает в таких случаях, “рвать и метать”, чтобы ему быстрее представили результат. Тем более меня удивил конец нашей беседы. “Вы, в общем, не особо там копайте”, – сказал министр и положил трубку телефона.
Сопоставив разговоры с Цанавой и Кругловым и не зная, естественно, подоплеки этого дела, я занял выжидающую позицию. Розыск велся, но подчиненных своих я не подстегивал…»8
Как видим, «спецоперация» по устранению Михоэлса носила до такой степени секретный характер, что даже высшему милицейскому и партийному руководству Белоруссии оставалось только догадываться об истинной подоплеке трагедии.
Но продолжим анализ версии Медведева. Жорес Александрович, сомневаясь в показаниях бывшего министра госбезопасности, включенных Берией в свою записку, пишет: «Маловероятно, что Сталин дал Абакумову столь срочное задание, на подготовку которого отводилось лишь два-три дня. Существует немалое число признаков того, что “ликвидация” Михоэлса готовилась заблаговременно и что сама поездка в Минск по командировке Комитета по Сталинским премиям, решение о которой было принято 2 января 1948 года, была частью сценария. … Для Сталина не было характерным слишком спешить с ликвидацией своих политических противников и даже личных врагов»9. Этот вывод близок к истине, однако, не нов. Такая гипотеза выдвигалась ранее рядом исследователей, в том числе и писателем А.М. Борщаговским10. Мыслит Медведев оригинально там, где говорит, что кроме Абакумова главным организатором убийства Михоэлса был Цанава, и характеризует его как «связника» Берии в этом деле.
«Лично я уверен, – читаем мы дальше, – что Михоэлса убили в Минске потому, что министром государственной безопасности Белоруссии был Лаврентий Цанава, которого называли в республике “Лаврентий Второй”. В Минске именно он имел максимальную власть…»11
В этом предположении бесспорно, по-моему, только одно: министр госбезопасности Белоруссии Цанава в самом деле играл весьма важную роль в практической организации убийства Михоэлса: он обеспечил, может быть, самое главное для такой «спецоперации» – полную секретность. Не зря же потом его вклад в выполнение «специального задания Правительства» был оценен особенно высоко: врученный ему, а также С.И. Огольцову орден Красного Знамени по статусу был высшей государственной наградой среди врученных участникам тайной акции.
Слабое звено в приведенном рассуждении Медведева – намек на то, что с Михоэлсом расправился не столько Сталин, сколько другие, что Михоэлс стал жертвой перманентных номенклатурных разборок в ближайшем окружении вождя. При этом Медведев не приводит фактов, обосновывающих его предположение. Он вынужден домысливать детали, утверждая, что в собственноручных показаниях Цанавы могло и не быть ссылки на личное указание Сталина уничтожить знаменитого актера (существовали-де неписаные правила кремлевской конспирации, табуировавшие в иных ситуациях имя вождя). Что ссылка на Сталина была внесена Берией потом, в процессе подготовки записки от 2 апреля 1953 года. Что на подлог Берию якобы подвигло намерение лишний раз продемонстрировать свою непричастность к сталинским репрессиям и получить возможность «шантажировать» и «запугивать» «других членов Президиума ЦК КПСС», как бы давая им понять, что их имена тоже могут быть в случае необходимости вписаны, в какой-нибудь компрометирующий документ12.
С таким умозаключением, слишком изощренным, чтобы походить на правду, трудно согласиться. Берии, стремившемуся дискредитировать С.Д. Игнатьева и других бывших руководителей госбезопасности, не нужно было специально фабриковать на них компромат: они, почти ежедневно преступавшие закон, в изобилии создавали его сами.
Всех этих заблуждений Медведеву, повторяю, наверняка удалось бы избежать, располагай он доступными теперь документальными данными об убийстве Михоэлса.
СОБСТВЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
С начала 1944 года в сталинском руководстве понемногу стало складываться мнение, что созданный в годы войны и возглавлявшийся Михоэлсом Еврейский антифашистский комитет уже самим фактом своего существования подспудно способствует усилению еврейского национализма в стране. Со временем «мнение» превратилось в твердую убежденность, вследствие чего вскоре по окончании войны «кураторы» ЕАК в ЦК ВКП (б) начали делать попытки его распустить. Тем не менее, благодаря покровительству В.М. Молотова, пока что сохранявшего влияние на Сталина, Михоэлсу удалось тогда сохранить свое детище. Однако в конце 1947 года над самим Михоэлсом нависла новая, еще более грозная опасность. 10 декабря по распоряжению Сталина (видимо, для того он и вызывал в Кремль Абакумова накануне поздно вечером) МГБ арестовало родственницу Сталина Е.А. Аллилуеву, обвиненную в распространении «гнусной клеветы в отношении главы советского правительства». 16 декабря Е.А. Аллилуева, кстати, подозревавшаяся Сталиным и в отравлении своего первого мужа, П.С. Аллилуева (умер в 1938 году), неожиданно показала на допросе, что знакомый ей И.И. Гольдштейн, работавший в институте экономики, подробно расспрашивал ее о Сталине и его дочери Светлане, о браке последней с Григорием Морозовым, о том, как складывались отношения между этими молодыми людьми после развода в мае 1947 года. Разумеется, о показаниях Аллилуевой немедленно стало известно Сталину, потому что в ночь на 19 декабря был арестован и сам Гольдштейн. В тот же день Абакумов опять приезжал в Кремль к Сталину, но пробыл всего пять минут, наверное, только отчитаться перед «хозяином», что и это его задание (арест Гольдштейна) успешно выполнено.
Из нового обитателя лубянского ада, подавленного и обескураженного неожиданным арестом, видимо, очень скоро, буквально в течение нескольких дней угрозами и побоями удалось выдавить первые показания о «преступных» замыслах. Так что к следующему своему визиту в Кремль к Сталину, который пришелся на вечер 23-го числа, Абакумов, скорей всего, уже имел на руках «признание» Гольдштейна. Поскольку тогда же у Сталина находились Молотов, Маленков, Берия, Жданов, Кузнецов, Вознесенский, Косыгин, министр внутренних дел Круглов и министр финансов Зверев, все они могли услышать, что сообщил вождю Абакумов13. А он, по всей видимости, доложил, что Гольдштейн «сознался» в том, в чем ранее его уличала Е.А. Аллилуева. Однако простое подтверждение факта сбора информации о его персоне уже не устраивало диктатора, который стал настаивать на том, что «Гольдштейн интересовался личной жизнью руководителя Советского правительства и его семьи не по собственной инициативе, а что за его спиной стоит иностранная разведка…» Об этом, по более позднему свидетельству бывшего заместителя начальника следственной части по особо важным делам МГБ СССР В.И. Комарова, поведал потом своим подчиненным сам шеф госбезопасности, инструктируя их, как вести следствие по вновь заведенному делу. И хотя, как говорит Комаров, «никаких материалов у нас на этот счет (“на счет” американской разведки. – Г.К.) не было, Гольдштейна стали допрашивать в этом направлении». Причем допрашивать с применением «острых методов», то есть попросту бить «смертным боем», пока тот не «признался», что «втерся в доверие к Аллилуевым по заданию З.Г. Гринберга», ближайшего помощника Михоэлса в ЕАК по работе с еврейской научной интеллигенцией, якобы утверждавшего, что сведения от родственников Сталина «нужны американцам». Но самое главное другое. Гольдштейн, по словам истязавшего его следователя Г.А. Сорокина, «показал о шпионской деятельности Михоэлса и о том, что он проявлял повышенный интерес к личной жизни главы Советского правительства в Кремле», чем «интересовались американские евреи»14.
Этот нужный «хозяину» результат был озвучен в Кремле, скорей всего, 27 декабря, когда Абакумов снова предстал перед Сталиным, на сей раз в сопровождении своего заместителя С.И. Огольцова. В обычно многолюдном кабинете Сталина тогда присутствовали только эти трое. И на то была причина. Впоследствии, 18 марта 1953 года, в своем письменном объяснении Берии Огольцов сделает чрезвычайно важное сообщение о главном результате той встречи: «Во время беседы… товарищем Сталиным была названа фамилия Михоэлса и в конце беседы было им дано указание Абакумову о необходимости проведения специального мероприятия в отношении Михоэлса…»15 Именно тогда и была решена судьба еврейского артиста. Смерть его стала вопросом времени.
По свидетельству хорошо знавшей Михоэлса и Аллилуевых историка театра Л.А. Шатуновской, случайно встретившей утром того же дня руководителя ГОСЕТа на Тверском бульваре, тот выглядел встревоженным и даже подавленным. При прощании он многозначительно произнес: «Это начало конца». По мнению Шатуновской, приступ тоски у Михоэлса объяснялся вполне конкретным фактом. В газете, опубликовавшей его выступление в Политехническом музее на вечере памяти классика еврейской литературы Менделе Мойхер-Сфорима, были опущены произнесенные им слова одобрения по поводу предстоящего создания государства Израиль16. Нечто аналогичное написано и в мемуарах дочери артиста, Натальи Вовси-Михоэлс, которая, правда, датирует выступление своего отца в Политехническом музее не 27, а 28 декабря 1947 года и называет иную причину его беспокойства: речь Михоэлса, подготовленная для радиоэфира, неожиданно оказалась размагниченной17.
Чтобы определить, кто из двух мемуаристок ближе к истине, пришлось поднять старую подшивку «Литературной газеты». В номере за 3 января 1948 года там напечатана заметка «Памяти еврейского классика» с кратким описанием упомянутого вечера. Поскольку этот материал не появился в предыдущем номере «ЛГ», вышедшем 30 декабря 1947 года, можно заключить, что чествование Мойхер-Сфорима состоялось не раньше 29 декабря, то есть через два дня после принятия Сталиным решения о ликвидации Михоэлса. И, значит, сказанное им в Политехническом музее уже не могло ничего изменить в его судьбе. Кстати, заметка в «Литературке» информировала читателей, что председательствовавший на вечере драматург Всеволод Вишневский и выступавшие писатели Д. Бергельсон, И. Добрушин и другие, а также народный артист СССР С. Михоэлс «отметили… в своих речах близкую связь Менделе Мойхер-Сфорима с идеями шестидесятников и огромное влияние на его творчество таких писателей, как Чернышевский, Некрасов, Добролюбов и, в особенности, Салтыков-Щедрин».
Вот, собственно, и все, что известно наверняка. Выказывал ли на этом вечере Михоэлс себя сторонником образования государства Израиль и если да, то каким образом, – остается только догадываться. Впрочем, даже если и выказывал, это вряд ли могло быть воспринято властями как нечто крамольное. Тем более трудно согласиться с утверждением, что выступление в Политехническом музее было «последней каплей в “деле Михоэлса”»18. Ведь сталинское руководство официально поддерживало в ООН идею создания самостоятельного еврейского государства; проявлять враждебность к Израилю и сионизму оно начнет только спустя месяцев девять – десять. Кроме того, в начале 1948 года в том же Политехническом музее мидовец Б.Е. Штейн и другие лекторы выступали со специальными докладами по «палестинской проблеме», в которых отнюдь не опасались признавать справедливым право евреев на собственное государство. Из всего этого явствует, что решение Сталина о тайной расправе с Михоэлсом не могло быть следствием ничем не доказанных просионистских симпатий последнего. Куда реальнее другая причина – паранойя вождя, усугубленная в последние годы жизни быстро прогрессировавшей юдофобией.
Но возвратимся к этапам подготовки убийства Михоэлса. Вечером 27 декабря 1947 года вместе с мужем, биофизиком Л.А. Тумерманом, будет арестована Л. Шатуновская. В ночь на 28 декабря взяли под стражу и упомянутого Гринберга. Как и Гольдштейн, он был арестован без санкции прокурора, но наверняка по личному указанию Сталина. Видимо, эти аресты особенно угнетающе подействовали на Михоэлса; он не мог не чувствовать, как невидимая удавка все туже затягивается у него на шее. Возможно, он заметил и установленное за ним «оперативное наблюдение» («наружку»). Ведь Огольцов потом говорил Цанаве, что первоначально «“боевая группа МГБ СССР” предпринимала меры к убийству Михоэлса еще в Москве, но сделать это не удалось, так как Михоэлс ходил по Москве в окружении многих женщин»19.
Именно это обстоятельство, очевидно, и навело Абакумова на мысль избрать местом проведения «спецоперации» не шумную столицу, а малолюдную провинцию с еще не устоявшейся после военного лихолетья жизнью. Там при необходимости легче было списать внезапную гибель человека на какую-нибудь «случайность». Вот почему еще не оправившемуся после нацистской оккупации Минску отнюдь не по воле слепого рока, а в результате умысла людей с Лубянки и суждено было стать местом гибели Михоэлса.
На то, что все было именно так, указывают несколько обстоятельств. Во-первых, Михоэлс должен был сначала, как член комитета по Сталинским премиям в области литературы и искусства, выехать в Ленинград и там отобрать несколько театральных спектаклей, достойных соискания высокой награды. Однако, по свидетельству художника А.Г. Тышлера, поддавшись уговорам В.И. Голубова-Потапова, как известно, негласного агента МГБ, он решил с той же миссией отправиться в Минск20. Во-вторых, в недавно опубликованной книге А.И. Ваксберга, вообще-то весьма спорной, изобилующей пристрастными оценками, зачастую противоречащей фактам, имеется подробное и, судя по всему, достоверное описание одного документа. Это – командировочное удостоверение, выписанное Михоэлсу 2 января 1948 года для поездки в Минск И.В. Нежным, помощником А.А. Фадеева по комитету по Сталинским премиям в области литературы и искусства (последний был его главой)21. И еще одному агенту «органов», оперативный псевдоним которого «Чайковский» расшифрован в моей книге «В плену у красного фараона» (1994)22.
Пятого января Михоэлс в последний раз участвовал в заседании комитета по Сталинским премиям. Седьмого вечером вместе с Голубовым-Потаповым они поездом уехали в Минск. Одновременно по тому же маршруту на двух автомашинах отправилась и «группа оперативных работников МГБ СССР» во главе с замминистра государственной безопасности Огольцовым. Помимо него в эту так называемую «бригаду» были включены следующие лица: руководящий работник второго главного (контрразведывательного) управления МГБ СССР полковник Ф.Г. Шубняков, сотрудники возглавлявшегося П.А. Судоплатовым23 отдела «ДР» полковник В.Е. Лебедев и старший лейтенант Б.А. Круглов, секретарь Огольцова майор А.Х. Косырев. Кроме того, известно (по изданному потом наградному указу), что в «спецоперации» был задействован и некий майор Н.Ф. Повзун. Впоследствии ни Огольцов, ни Шубняков в своих показаниях не назвали этого человека среди тех, кто вместе с ними в январе 1948 года отправился из Москвы в Минск. Думаю, то был сотрудник белорусских «органов», которого в силу каких-то обстоятельств Цанава привлек к «спецоперации» на одном из последних ее этапов.
За день до отъезда в Минск Абакумов собрал в своем кабинете участников «спецоперации» для инструктажа. Перед этим по ВЧ он позвонил в Минск министру госбезопасности Белоруссии Цанаве. И хотя разговор велся по линии засекреченной связи, Абакумов был предельно осторожен. Только убедившись, что его собеседник в комнате один, он решился на главный, хотя, в общем-то, формальный вопрос (положительный ответ как бы уже заранее подразумевался):«Имеются ли в МГБ Белорусской ССР возможности для выполнения… важного решения правительства и личного указания Сталина?» И вот теперь, по окончании инструктажа, Абакумов вновь связался с Цанавой. На сей раз он выражался более определенно и сообщил своему подчиненному, что тот будет руководить «операцией» на месте вкупе с Огольцовым, выезжающим в Белоруссию с группой оперативных работников. Впрочем, министр и на сей раз не решился по телефону произнести слова, раскрывающие суть «спецзадания» Сталина. Только когда бригада Огольцова прибыла в Минск, или, точнее, на загородную дачу Цанавы в поселке Слепянка, последний узнал, что специальные «решение правительства» и «указание Сталина» заключаются в «ликвидации Михоэлса»24.
Сверхсекретный характер убийства, невозможность заранее отработать все детали этой акции привели к тому, что Сталин и Абакумов предварительно могли наметить лишь ее основные контуры. Что это означало? Во-первых, для обеспечения максимальной конфиденциальности московским оперативникам следовало, не заезжая в республиканское МГБ, сразу прибыть на загородную дачу Цанавы. Во-вторых, убийство должно было выглядеть как несчастный случай, как результат автомобильной катастрофы (вот почему в «спецгруппе» оказались Лебедев и Круглов – особого рода «транспортники» из вверенного Судоплатову подразделения). Все конкретные решения предполагалось принимать на месте, но реализовывать – только по согласованию с центром.
В противоположность тому, что утверждают Ж. Медведев и А. Борщаговский (инициатива в устранении Михоэлса исходила-де от Абакумова, а Сталин лишь дал «лицензию на отстрел»)25, именно кремлевский «хозяин» играл в этом деле первую скрипку. Полагать так заставляют не только общие соображения о механизме принятия важных решений в годы сталинской диктатуры. Никак нельзя сбрасывать со счетов и показания Огольцова, свидетельствовавшего, что, вызвав его и Абакумова, «глава Советского правительства» дал им 27 декабря 1947 года не только указание о проведении «специального мероприятия в отношении Михоэлса», но и уточнил при этом, что имеет в виду автомобильную катастрофу26.
…Первые три дня по прибытии в Минск Лебедев, Круглов и Шубняков, как потом признался последний, «вели наблюдение за Михоэлсом, выясняли обстановку и условия для организации автомобильной катастрофы». «Рекогносцировка» показала: «Михоэлса всегда окружала большая группа местной интеллигенции, он часто пользовался автомашиной Совмина Белоруссии, и его сопровождали работники аппарата Комитета по делам искусств». «Таким образом, – вспоминал Шубняков, – полностью исключалась возможность организации автомобильной катастрофы, если только не создать условий для секретного изъятия Михоэлса». После того как эти аргументы были доложены Огольцовым Абакумову, тот, требуя от своих подчиненных «во что бы то ни стало осуществить операцию», все-таки кое с чем согласился и приказал задействовать в операции сопровождавшего Михоэлса «агента 2 Главного управления МГБ СССР»27. Эта неизвестная ранее деталь позволяет предположить, что поездка Голубова-Потапова в Минск не была спланирована госбезопасностью заранее. И то, что агент оказался там вместе с Михоэлсом, могло быть, вопреки намекам некоторых авторов на заинтересованность в этом Лубянки, только случайным стечением обстоятельств28. Соображение это имеет под собой довольно веское основание. Однако оно не исключает и того, что спецслужбы могли, не раскрывая Голубову-Потапову своего замысла, «втемную» использовать его еще в Москве, скажем, для того, чтобы уговорить Михоэлса поехать именно в Минск. Правда, такая вероятность в свете процитированных показаний Шубнякова представляется не вполне реальной.
Ответственным за «секретное изъятие» Михоэлса был назначен Шубняков. Увидевшись на «явке» с Голубовым-Потаповым, он приказал ему: «в частной обстановке встретиться с Михоэлсом», для чего пригласить последнего к некоему «личному другу, проживающему в Минске». Ничего не подозревавший Голубов-Потапов без особого труда уговорил Михоэлса, любившего дружеские застолья, почтить своим присутствием то ли свадьбу, то ли какое-то еще семейное торжество у своего «старого знакомого, инженера Сергеева». По поводу этого загадочного «Сергеева» существует много предположений. Получила, например, широкое распространение легенда, что перед смертью Михоэлс был в гостях у своего друга генерал-полковника Сергея Георгиевича Трофименко, командующего войсками Белорусского военного округа29. И для того чтобы по каким-то соображением скрыть от своих белорусских коллег, к кому именно он направляется, Михоэлс зашифровал Трофименко именем «инженера Сергеева». Теперь ясно, что «Сергеев» – выдумка не Михоэлса, а госбезопасности. Но почему именно такое имя? После войны в Малом театре шла пьеса «Инженер Сергеев», автором ее был В.Н. Меркулов, тогдашний нарком госбезопасности, подвизавшийся на литературной ниве под псевдонимом Всеволод Росс. Разумеется, спектакль пользовался у чекистов особой популярностью, не исключено, что именно из-за этого Шубнякову и пришла в голову идея назвать «личного друга» «инженером Сергеевым».
… И вот 12 января примерно в восемь вечера двое столичных командированных вышли из гостиницы и направились к месту встречи с «инженером». Тот должен был подъехать на автомобиле и отвезти «гостей» к себе домой. Шубняков показал позже, что где-то около девяти к нему и сидевшему за рулем автомашины Круглову подошли Голубов-Потапов и Михоэлс. Михоэлсу он был представлен как «Сергеев». Потом «все отправились ко мне (Шубнякову. – Г.К.) “на квартиру”, т.е. на дачу т. Цанавы»30.
Можно с большой долей уверенности предположить, что ни Михоэлс, ни Голубов-Потапов до самого последнего момента, то есть до тех пор, пока «примерно в 10 часов вечера» (слова Цанавы в записке Берии. – Г.К.) они не въехали во двор загородного дома министра госбезопасности Белоруссии и поджидавшие там оперативники не стали грубо выволакивать их из машины, и не догадывались, что оказались в западне. Поэтому появляющиеся до сих пор в печати драматические сцены насильственного похищения (с нападением и борьбой) двух столичных театральных деятелей есть всего-навсего плоды чьей-то фантазии. Вызывает сомнение и приведенное в записке Берии утверждение Цанавы: «Они (Михоэлс и Голубов-Потапов. – Г.К.) немедленно с машины были сняты и раздавлены грузовой автомашиной»31. Вряд ли события на злополучной даче развивались столь стремительно (это потом они спрессовались в памяти некоторых участников «спецоперации»), хотя, несомненно, детальный сценарий убийства был уже составлен и подготовлено орудие убийства – «студебеккер». Согласно более детальному описанию Шубнякова, после того как он «доложил т. Огольцову, что Михоэлс и агент доставлены на дачу», тот, связавшись в очередной раз с Абакумовым по ВЧ, поспешил сообщить ему эти сведения, а также свои соображения относительно дальнейших действий. Министр госбезопасности «погнал зайца» дальше. «Не кладя трубки», он по АТС Кремля доложил обо всем «в Инстанцию». Проще говоря, Абакумов позвонил Сталину, который, скорей всего, еще находился на своей Ближней даче, так как в тот день он приехал в Кремль только к половине двенадцатого, когда там началось заседание политбюро32.
Очевидно, что Сталин, зарезервировавший санкцию на уничтожение ненавистного артиста, дал ее в последний момент, подтвердив ранее принятое решение имитировать случайный инцидент на дороге. Произошло это, вернее всего, после того как Абакумов, доложил последние данные о ходе «спецоперации» и предложил покончить с Михоэлсом с помощью грузовика. Как именно реагировал Сталин, поведала впоследствии всему миру в своих мемуарах его дочь Светлана, находившаяся в тот момент рядом: «Ему что-то докладывали, а он слушал. Потом как резюме он сказал: “Ну, автомобильная катастрофа”. Я отлично помню эту интонацию – это был не вопрос, а утверждение, ответ. Он не спрашивал, а предлагал эту автомобильную катастрофу»33.
В ходе того же телефонного разговора Абакумова со Сталиным, наверное, определилась и судьба Голубова-Потапова, которого решено было убрать вместе с Михоэлсом, поскольку он «был в курсе всех агентурных мероприятий, проводившихся по Михоэлсу», «доверием у органов… не пользовался» и, самое главное, оказался в положении «невольного и опасного свидетеля смерти Михоэлса»34.
После этого «спецоперация» вступила в завершающую стадию, которая следующим образом описана в показаниях Шубнякова: «С тем чтобы создать впечатление, что Михоэлс и агент попали под автомашину в пьяном виде, их заставили выпить по стакану водки35. Затем они по одному (вначале агент, а затем Михоэлс) были умерщвлены – раздавлены грузовой автомашиной. … Убедившись, что Михоэлс и агент мертвы, наша группа вывезла их тела в город и выбросила их на дорогу одной из улиц, расположенных недалеко от гостиницы. Причем их трупы были расположены так, что создавалось впечатление, что Михоэлс и агент были сбиты автомашиной, которая переехала их передними и задними скатами. … Рано утром трупы Михоэлса и агента были обнаружены случайным прохожим, и на место происшествия прибыли сотрудники милиции, составившие акт осмотра места происшествия. В тот же день судебно-медицинская комиссия подвергла патологоанатомическому вскрытию трупы Михоэлса и агента и установила, что их смерть наступила от удара грузовой автомашиной, которой они были раздавлены…»36
Как видим, убийцы Михоэлса, чтобы замести следы преступления, прибегли к алкоголю, а не к яду, который вообще не упоминается в документах «дела», и на котором, как помним, настаивал Судоплатов.
НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
Конечно, изложенное – версия, но такая, которая в наибольшей степени соответствует известным на сегодня документам и свидетельствам. Она в значительной мере объясняет смысловые нестыковки, имеющиеся в показаниях участников «спецоперации», зафиксированных в начале 1953 года. Хотя, конечно, полностью устранить эти противоречия вряд ли удастся: они ведь обусловлены аберрацией человеческой памяти. Показания давались по прошествии пяти с лишним лет после убийства Михоэлса, когда многое уже позабылось… Едва ли реально разгадать и те тайны, что возникли уже после гибели Михоэлса. Скажем, сегодня нельзя дать точный ответ на вопрос, о чем велась речь на заседании политбюро, начавшемся на исходе недоброй памяти 12 января 1948 года. Оно шло под председательством Сталина с участием В.М. Молотова, А.А. Жданова, Л.П. Берии, А.И. Микояна, Г.М. Маленкова, Н.А. Вознесенского, А.Н. Косыгина, Н.А. Булганина и Л.М. Кагановича37. В таких случаях историкам остается только гадать, но не на кофейной гуще, а апеллируя к косвенным доказательствам.
Возможно, во время этого ночного бдения, закончившегося в 1час 40 минут, Сталин под большим секретом поведал своим ближайшим соратникам о «преступлении и наказании» Михоэлса или, по крайней мере, прозрачно намекнул на истинную подоплеку трагедии, только что произошедшей в Минске. С помощью этого предположения, в свою очередь, можно сделать логический вывод о том, зачем Сталину еще 10 января, то есть тогда, когда он не только был убежден в виновности Михоэлса, но уже приказал его умертвить, потребовался первый официально оформленный («обобщенный») и доставленный Абакумовым протокол допроса И.И. Гольдштейна, содержавший убийственное для Михоэлса «признание»: «Михоэлс дал мне задание сблизиться с Аллилуевой, добиться личного знакомства с Григорием Морозовым. “Надо подмечать все мелочи, – говорил Михоэлс, – не упускать из виду всех деталей взаимоотношений Светланы и Григория. На основе вашей информации мы сможем разработать правильный план действий и информировать наших друзей в США, поскольку они интересуются этими вопросами”»38.
И поскольку 11 января Сталин в своем служебном кабинете никого не принимал, а объявился в Кремле только на следующий день, точнее – следующей ночью (ночью убийства Михоэлса), мысль о том, что этот протокол понадобился вождю лишь для того, чтобы с его помощью на срочно собравшемся заседании политбюро обосновать необходимость немедленного выполнения минской «спецоперации», представляется вполне разумной. Циничный прагматик Сталин, всегда старавшийся подвести под свои преступления более или менее легитимную, в духе «революционной целесообразности» базу, как бы постфактум огласил заочный смертный приговор Михоэлсу. Примерно так же Сталин поступал в годы «большого террора» 1936–1938 годов, знакомя одного за другим высших партийно-государственных сановников с саморазоблачениями Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева, Н.И. Бухарина и других обреченных им на казнь людей. По этой же методе он действовал и незадолго до своей смерти, когда, тыча в физиономии обескураженных своих соратников доставленные с Лубянки «признания» «врачей-вредителей», пенял им: «Вы слепцы, котята, что же будет без меня? Погибнет страна, потому что вы не можете распознать врагов»39. Дальнейшее развитие этой версии позволяет объяснить, почему Полина Жемчужина, жена присутствовавшего на заседании политбюро Молотова, уже на похоронах Михоэлса не прямо, но давала понять, что его гибель – результат не несчастного случая, как объявили официально, а преднамеренного убийства. И наконец, если допустить, что Сталин в ночь на 13 января 1948 года раскрыл в узком кругу приближенных тайну смерти Михоэлса, становится ясным, что у тирана, помимо прочего, появился веский резон впоследствии арестовать Жемчужину и подвергнуть опале самого Молотова, обвиненного в разглашении (устами жены) важнейших государственных секретов40.
…Более 55 лет назад в Минске было совершено убийство, которое без преувеличения можно назвать преступлением века. Его «заказчик» никак не ответил за это свое злодеяние. Избежали наказания и В.Е. Лебедев, и Б.А. Круглов, и Ф.Г. Шубняков – «непосредственные исполнители» (слова С.И. Огольцова. – Г.К.)41 подлой акции, обагрившие свои руки кровью невинных жертв. Всех троих Сталин наградил боевыми орденами Отечественной войны первой степени. Правда, в 1951 году Шубнякова арестовали, но за решеткой он очутился по делу впавшего в немилость у Сталина Абакумова. По горькой иронии истории в 1953 году, то есть уже после того, как был вскрыт преступный характер минской «спецоперации», организованной Сталиным, Шубнякова освободили. Много лет спустя, в сентябре 1995 года, выступая в качестве свидетеля защиты на процессе «Е.П. Питовранов против В.К. Молчанова», он лгал, что сам никого не убивал и что его задачей являлось лишь «установление контактов с Голубовым в целях получения информации о настроениях и планах Михоэлса и передача ее Огольцову и министру ГБ БССР Цанаве»42. В 1998 году на 82-м году жизни Шубняков умер, так и не раскаявшись в совершенном преступлении.
Главный разоблачитель убийц Михоэлса Берия, решившийся на расследование минской трагедии, достоин уподобления той закоснелой грешнице, которой, по Достоевскому, было даровано царствие небесное лишь за то, что она однажды в качестве милостыни подала луковицу нуждавшемуся. Хотя, конечно, Берия, арестовавший за участие в убийстве великого актера и Цанаву, и Огольцова, отнюдь не боролся за торжество справедливости, а лишь воспользовался благоприятным случаем, чтобы расправиться со своими личными врагами во власти и поднять среди интеллигенции свой, выражаясь современным языком, общественный рейтинг. После ареста Берии Огольцова выпустили на свободу «полностью реабилитированным» по делу об убийстве Михоэлса. Правда, после падения его покровителя Маленкова Огольцова за другие «грубые нарушения социалистической законности» исключат из партии, лишат генеральского звания и правительственных наград. Цанаве же больше вообще не доведется насладиться свободой: в 1955 году он то ли умер, то ли покончил с собой в заключении.
ЖЕРТВА ПОЛИТИКИ ИЛИ ЗАГОВОРА?
По тому, какие главные побудительные причины современные исследователи усматривают в действиях власти, успешно завершившей «дело Михоэлса», их можно условно разделить на несколько групп. Большинство авторов объединяет приверженность так называемой теории заговора, в рамках которой они мотивируют ликвидацию еврейского артиста по-разному. А.М. Борщаговский, например, считает это политическое убийство «личным заказом» министра госбезопасности Абакумова. Якобы именно он, движимый патологической ненавистью к евреям и их неформальному лидеру, «не позднее сентября 1947 года» замыслил этот заговор и с тех пор ожидал лишь удобного случая, чтобы получить «добро» от Сталина на реализацию своей «злодейской фантазии»43. Аналогичной точки зрения придерживается и Ж.А. Медведев, не исключающий, что, распорядившись провести «спецоперацию» в Минске, Сталин попросту пошел навстречу Абакумову. Он даже намекает, что Абакумов ради получения санкции от Сталина на устранение Михоэлса мог специально инспирировать «дело Аллилуевых»44.
Медведев также полагает вероятным, что, в конечном счете, Михоэлс пал жертвой борьбы за власть, не утихавшей в партийных верхах. По его мнению, в 1947 году сформировался политический союз Берии и Маленкова. Оба мечтали о захвате власти после смерти Сталина и потому принялись активно интриговать против основного конкурента – Молотова, поддерживаемого членами политбюро Микояном, Кагановичем, Андреевым и номенклатурными работниками еврейского происхождения. Медведев так и пишет: «Заговор против Молотова был спланирован очень умело, но и очень жестоко. Он предусматривал убийство Михоэлса, аресты и расстрелы членов ЕАК, включая Лозовского, и арест Полины Жемчужиной». Чтобы подкрепить это общее и, прямо скажем, во многом спорное утверждение хотя бы какими-то реальными доказательствами, Медведев из-за отсутствия в его распоряжении подлинных фактов вынужден домысливать: «Нельзя исключить и того, что “Лаврентий Второй” (Цанава. – Г.К.) получил по поводу этой “спецоперации” какие-то секретные инструкции от “Лаврентия Первого” (Берии. – Г.К.)»45.
Помимо перечисленных внутриполитических факторов, лежащих в основе «дела Михоэлса», Жорес Александрович называет и внешнеполитические, причем высказывается по этому поводу так же неопределенно и загадочно: «Можно пока только предположить, что уникальные особенности всего этого дела были каким-то образом связаны с более высоким уровнем политики этого периода». Впрочем далее, выстраивая в том же гипотетическом ключе события 1947 – 1948 годов на Ближнем Востоке, он поясняет: в советской номенклатурной верхушке существовало в скрытой форме «лоббирование интересов Израиля сначала как идеи, а затем как государства». Среди главных субъектов подспудного влияния на советские верхи в этом смысле были Михоэлс и Полина Жемчужина, за что они, как дается понять читателю, и пострадали.
Вообще же, в представлении Медведева, послевоенное советское еврейство было как бы «разделено на две основные группы: националистическую и ассимилированную»46. Причем, как можно понять из рассуждений автора, всплеск национально-общественной активности советских евреев был во многом вызван Холокостом и историческими событиями на Ближнем Востоке, увенчавшимися образованием государства Израиль. Отсюда и соответствующая интерпретация тогдашней «еврейской политики» Сталина, которая, хотя и квалифицируется как латентный государственный антисемитизм, но вместе с тем во многом являет собой вынужденный ответ режима на брошенный ему вызов. Медведев полагает: «Антисемитизм Сталина… не был ни религиозным, ни этническим, ни бытовым. Он был политическим и проявлялся в форме антисионизма, а не юдофобии… Антисионизм Сталина наиболее заметно проявился после войны, когда “еврейский вопрос” стал острой международной проблемой… Государственный антисемитизм был скрытым и маскировался как борьба с космополитизмом. Он возник как неизбежная реакция властей на рост еврейского национализма, возникшего в результате нацистского геноцида евреев». И главное: действия Сталина «не были попыткой ликвидации евреев по примеру гитлеровского геноцида. Это была серия превентивных репрессивных мер в ответ на появившиеся и в СССР “эмиграционные” настроения, которые стимулировались и поощрялись политикой нового еврейского государства и его спонсорами»47.
Правда, говоря о просионистских симпатиях советских евреев и о том, что осенью 1948 года они обрели характер массовых стихийных демонстраций во время посещений первым послом Израиля Г. Меир Московской хоральной синагоги и еврейского театра, Медведев тут же, словно в пику самому себе, пытается доказать, что эти бурные проявления национального самосознания были отнюдь не спонтанными, а, скорей всего, инспирированными властями, искавшими «убедительного повода» для расправы с ЕАК48.
С этим умозаключением тоже нелегко согласиться. Ведь в те месяцы массовыми были и другие формы солидарности советских евреев с Израилем: в ЕАК поступило множество просьб об эмиграции, поступили и предложения сформировать целые дивизии добровольцев, готовых сражаться за независимость исторической родины. Известны сотни случаев моральной поддержки Израиля в этой борьбе. Вряд ли сымитировать все это было под силу даже могущественной советской номенклатуре. И потом, по воле ее демиурга Сталина 21 сентября 1948 года в «Правде» появилась специальная статья И.Г. Эренбурга, отнюдь не провоцировавшая, а, напротив, предостерегавшая советских евреев, поддавшихся магии сионизма.
Такое представление Медведевым глубинных причин антагонизма между Сталиным и евреями, на первый взгляд, вроде бы перекликается с позицией известного идеолога неопочвенничества В.В. Кожинова, довольно успешно занимавшегося в последние годы жизни исторической публицистикой и рассматривавшего «еврейскую политику» Сталина исключительно как производную от послевоенной ситуации на Ближнем Востоке. Однако, по сути, эти авторы – антиподы. Если Медведев, как мы успели убедиться, так или иначе признает существование сталинского официального антисемитизма, то Кожинов, напротив, его решительно отрицает. «Нет реальных оснований, – утверждает он, – усматривать антисемитизм как таковой в поведении власти и в ее верховном носителе Сталине»49. Для Кожинова расправа над руководством ЕАК – всего лишь случайное следствие «решительного поворота Израиля в сторону США… к концу 1948 года», когда в СССР стали искать виновных за прежний, оказавшийся тупиковым курс на сотрудничество с сионистами. То есть в трактовке Кожинова сталинские гонения на евреев выглядят на сто процентов спровоцированными чисто внешней причиной – переходом Израиля под военно-политическую эгиду США и никоим образом не обусловленными внутренней ситуацией в стране.
Однако такое объяснение поверхностно и не исчерпывает сути проблемы. Не ясно, скажем, почему Сталин не довольствовался расправой над руководителями ЕАК, которых, как полагает Кожинов, считал повинными в дезинформации советского правительства относительно благоприятных перспектив сотрудничества с Израилем. Почему пошел значительно дальше – разгромил еврейскую культуру, а потом начал тотальную антиеврейскую чистку в управленческих структурах. Вместе с тем, существуют документы (в том числе докладная записка Абакумова Сталину и другим членам политбюро от 26 марта 1948 г.), свидетельствующие, что власти в СССР даже до образования Израиля и последующего всплеска национальных эмоций в советском еврействе вынашивали репрессивные антисемитские планы50.
Не решаясь полностью отринуть этот более чем убедительный аргумент, Кожинов стремится хотя бы принизить его значимость, утверждая, будто «нет оснований полагать, что тот или иной “компромат” на деятелей ЕАК представлял для них реальную (курсив Кожинова. – Г.К.) угрозу до конца 1948 года; перед нами своего рода рутинное занятие органов НКГБ – МГБ, а также ЦК ВКП (б)». Но поскольку данное утверждение явно противоречит такому важному и самоочевидному факту, как тайное устранение Михоэлса госбезопасностью (кстати, оно тоже осуществлено до создания государства Израиль), нашему неопочвеннику не оставалось ничего другого, кроме как, по крайности, бросить тень сомнения на эту, по его слову, «версию» смерти великого трагика. С его точки зрения, она «не обладает стопроцентной достоверностью», поскольку «единственный подтверждающий ее документ (записка Берии Маленкову от 2 апреля 1953 года. – Г.К.) имеет весьма сомнительный характер»51. Между тем, эта записка – далеко не «единственное» прямое доказательство в пользу оспариваемой В. Кожиновым «версии». Существует, по крайней мере, еще одно доказательство, о котором литератор, конечно, не мог не знать: широко обсуждавшиеся в СМИ свидетельские показания Ф.Г. Шубнякова на упоминавшемся судебном процессе 1995 года, где тот публично признал факт тайного убийства Михоэлса, совершенного сотрудниками МГБ по приказу из Кремля52.
Очень жаль, что почвенническая идейность и явная апологетика Сталина, бьющие ключом в книге Кожинова, в значительной мере свели в ней на нет несомненно присущую этому автору оригинальность в выборе нестандартных исследовательских подходов.
В отличие от Кожинова Медведева трудно заподозрить в намеренном препарировании фактов по идеологическим соображениям. Если он в чем-то и грешит против истины, то не потому, что отрабатывает некий социальный заказ, а просто в силу незастрахованности каждого автора от ошибки. То же самое можно сказать и о его приверженности «теории заговора», кстати, достаточно умеренной.
Если кого и можно назвать настоящими мастерами «заговорщического» жанра, так это упоминавшихся уже Судоплатова и скандально известного Мухина, выступающего с махрово-шовинистической позиции. Мухин противоречит не только очевидным фактам, но и элементарному здравому смыслу (отрицает какую-либо причастность Сталина к гибели Михоэлса).
Автор же этих строк считает, что главной причиной и тайной расправы над Михоэлсом, и последовавших спустя год арестов деятелей ЕАК, и уничтожения еврейской культуры, а также развернувшихся следом чисток (по «пятому пункту») управленческого аппарата, стало послевоенное усиление государственного антисемитизма в стране, вызванное обострением холодной войны и личной юдофобией Сталина. Что касается национализма евреев, то, будучи далеко не поголовным, он тоже нарастал в тот период и не только под влиянием «ближневосточного чуда» (создания государства Израиль), но и под влиянием народной памяти о трагедии Холокоста, а также из-за усиления шовинизма в советской пропаганде и в повседневной жизни. Но эта национальная ажитация была не причиной, а лишь катализатором антиеврейских гонений, запрограммированных поздним сталинизмом как репрессивной системой власти, пораженной ксенофобией.
В целом же в книге Медведева отчетливо просматривается тенденция несколько приуменьшить роль Сталина в принятии властных решений вообще и в реализации «еврейской политики» в частности. В этом мы уже успели убедиться на примере глав о «деле Михоэлса». Приблизительно под тем же соусом подаются и обстоятельства тайного роспуска ЕАК. Полагая, что «…комментарий Костырченко о том, что “судьбой ЕАК единолично распорядился сам вождь”, вряд ли можно считать бесспорным», Медведев особо отмечает тот факт, что 20 ноября 1948 года, в день выхода соответствующего постановление политбюро ЦК ВКП (б), Сталина не было в Москве; он находился на отдыхе в Закавказье. Отсюда предположение: диктатор, скорее всего, лишь заочно одобрил подготовленное аппаратом (Маленковым) решение, в котором «профессионально» было заинтересовано главным образом МГБ. В подкрепление этого вывода приводится выдержка из выступления Н.С. Хрущева на июльском, 1953 года, пленуме ЦК КПСС, где тот бичевал практику фальсификации «органами» политических дел53, а также довольно пространное рассуждение по поводу, в общем-то, малозначимой в данном случае и носящей технический характер детали – присутствия под упомянутым постановлением вместо «живой» подписи Сталина так называемого «факсимиле».
Подобную аргументацию нельзя признать убедительной. Ведь известно, что Сталин вплоть до последних дней жизни решительно пресекал всякие попытки бюрократии манипулировать им, грозя «проклятой касте» жестокими карами, если та попытается сделать из него, как он, между прочим, выражался, «факсимиле». Что касается упомянутой речи Хрущева, произнесенной, кстати, сразу после ареста Берии, то она носила кампанейский пропагандистский характер. Подобные инвективы всегда звучали из уст советских партийно-государственных лидеров, когда олицетворявшемуся ими политическому режиму требовалось в очередной раз переложить ответственность за совершенные преступления с политического руководства и «безгрешного» партаппарата (несущей конструкции этого режима) на очередного козла отпущения.
Конечно, если разбираться конкретно, то с конца 1947 года МГБ настойчивей, чем аппарат ЦК ВКП (б), добивалось применения радикальных мер в отношении ЕАК. Но эта силовая структура давно была приучена вождем работать в основном именно такими методами – при том, что главную роль все равно играл Сталин. Возможно, лично он и не подписывал ликвидировавшего ЕАК постановления политбюро, но безусловно инициировал его и даже готовил, привнеся в формулировки этого документа только ему присущий, характерный стиль.
Такое смещение акцентов, обусловившее явную переоценку Медведевым роли органов госбезопасности в убийстве Михоэлса и «деле ЕАК», не могло не сказаться на авторском отношении к личности тогдашнего шефа МГБ Абакумова. Последний представлен «малообразованным и жестоким человеком», обладавшим «большой физической силой» и лично избивавшим заключенных, «добиваясь нужных показаний»54. Формально в таком описании все вроде бы соответствует действительности. И Солженицын («В круге первом») изображает Абакумова так же. Вместе с тем в этой характеристике, содержащей типичные для выходца из диссидентского лагеря оценки, чувствуются огорчительная банальность, недодуманность. Эта же историческая фигура предстанет не в одном только мрачном свете, если попытаться пристальней взглянуть на нее сквозь призму открывшихся в последние годы фактов. Тогда в нарисованном литераторами и историками зловещем образе станут заметными и трагические черты.
Уже одно то, что Абакумов в отличие, скажем, от Ежова или Берии не был партфункционером, а, значит, и политиканом, – фактор сам по себе примечательный, сыгравший немаловажную роль в формировании личности этого человека. По отзывам углубленно изучавших биографию Абакумова известных писателей В.О. Богомолова (автора почти культового романа «В августе сорок четвертого») и К.А. Столярова, впервые на основе ранее засекреченных архивов осветившего в документальной повести «Голгофа» теневую сторону послевоенной деятельности советской госбезопасности, этот человек хотя и был интеллектуально примитивен, груб и не отличался изысканностью манер, но вместе с тем обладал живым природным умом, здравым смыслом, а также в известной мере чувством собственного достоинства. Возглавляя в годы войны армейскую контрразведку «Смерш», он имел дело с реальным, достаточно серьезным противником и был, в отличие от Сталина, уже тогда непосредственно руководившего им, психологически устойчив. Абакумов и после войны выказывал больше рвения в борьбе с врагом настоящим, открытым – вооруженными отрядами националистов-сепаратистов в Прибалтике и на Западной Украине, – нежели с, так сказать, умозрительным, сотворенным больным воображением Сталина. Ему были присущи безусловная сила характера, личная храбрость и даже относительная самостоятельность позиции в связи с крупными политическими делами, которые ему пришлось фабриковать по воле того же Сталина. Будучи искренне убежден: «Мы солдаты, что прикажут, то и должны делать»55, Абакумов, тем не менее, не давал хода «делу врачей», отрицал наличие «террористических намерений» у арестованных в начале 1951 года молодых евреев, входивших в так называемый «Союз борьбы за дело революции», спустил на тормозах «дело ЕАК». Показателен и такой малоизвестный факт. Когда в феврале 1949 года тогдашний глава агитпропа ЦК Д.Т. Шепилов, которого Борщаговский, изобразил в своих «Записках баловня судьбы» чуть ли не как благородного защитника травимых в то время «космополитов», официально попросил Абакумова «разобраться» со «сборищами» «глубоко враждебной… антипатриотической группы… театральных критиков в московском ресторане “Арагви”»4, то оставил этот донос без последствий56.
Другими словами, Абакумов был хоть и преданным псом кремлевского «хозяина», но таким, который отнюдь не всегда угождал его капризам. Диктатор не мог этого не чувствовать и с годами все больше не доверял Абакумову. В феврале 1950-го в качестве альтернативы следственному изолятору МГБ Сталин распорядился создать для содержания и допросов наиболее опасных в его глазах политических преступников «особую тюрьму» на Матросской Тишине, руководство которой поручил Маленкову и Шкирятову.
Ну и, конечно, Борщаговский сильно погорячился, написав применительно к Абакумову об «отравленном сознании махрового юдофоба, для которого само звучание еврейских имен, “запах крови”» были «гарантией преступности»57. Реальная действительность опровергает писателя. Уличенного в «обмане партии» Абакумова в июле 1951 года сняли по приказу Сталина с поста министра госбезопасности и арестовали, обвинив в покровительстве еврейским националистам в МГБ. Так стараниями печально известного подполковника М.Д. Рюмина возникло «дело Абакумова-Шварцмана». Характеризуя Абакумова в тот период его жизни, Борщаговский уже не столько осуждает, сколько симпатизирует: «Личная доблесть, хотя и извращенная злодейством, была присуща ему самому. Никакие пытки и издевательства над ним Рюмина не сломили Абакумова до самой казни…»58 В декабре 1954 года Абакумова с явной поспешностью расстреляли. Видимо, потому, что он слишком много знал о темных сторонах прошлого бывших соратников Сталина, наследовавших власть в СССР.
СТРАСТИ ПО КРЫМСКОЙ УТОПИИ
Пожалуй, больше всего в прошлом советского еврейства воображение всех конспирологов – от либералов до шовинистов – будоражит история, связанная с Крымом, которую одни из них с порога объявляют безусловной провокацией МГБ, а другие – наглядным свидетельством козней зловредных евреев. Даже рассудительный, осторожный в оценках Медведев, изучая историю подготовки передачи Михоэлсом и другими руководителями ЕАК записки советскому руководству о создании на территории Крыма так называемой Еврейской советской социалистической республики (февраль 1944 г.), не в силах удержаться от формулировок типа «антиеврейский заговор спецслужб». Думается, они во многом навеяны книгами Судоплатова и Борщаговского.
В документальную повесть «Обвиняется кровь», принадлежащую перу последнего, включены целых три взаимоисключающие версии. «Крымский проект» – это, с одной стороны, изначальная провокация «выслуживавшихся» перед диктатором органов госбезопасности; с другой – единоличная провокация Сталина против всего еврейского народа; с третьей – спекулятивная интрига Сталина или Маленкова с Берией и Ждановым против Молотова.
Однако если Борщаговский иногда грешит против истины вследствие свойственной ему пристрастности и рожденного излишним обилием эмоций некоторого сумбура мыслей, то Судоплатов, что называется, сознательно отступает от исторической правды, рассматривая прошлое сквозь обусловленную коммерческим расчетом призму политического детектива. В результате под пером бывшего супершпиона родился миф, не поддержанный, кстати, ни Борщаговским, ни Медведевым, ни тем же Кожиновым. Миф о том, что убийство Михоэлса напрямую сопряжено с «крымской историей». Однако «крымское письмо» уже потому не могло быть причиной смерти Михоэлса, что, созданное в феврале 1944 года и тогда же отправленное в архив, оно вновь всплыло на поверхности только 26 марта 1948 года, то есть спустя несколько месяцев после убийства актера. В датированной этим числом записке, составленной, кстати, уже известным нам Шубняковым и направленной Абакумовым Сталину, Молотову, Жданову и Кузнецову, «крымское письмо» впервые заочно инкриминировалось руководителям ЕАК и С.А. Лозовскому как доказательство их националистической и проамериканской деятельности. Правда, тогда знакомство Лубянки с этим письмом было, очевидно, еще заочным, о его содержании там пока что могли судить по описаниям секретных агентов и показаниям арестованного З.Г. Гринберга. И только когда в конце 1948 года ЕАК был распущен, а его архив – арестован, в распоряжении МГБ оказались сами тексты «крымского письма». 4 декабря Абакумов докладывал Сталину и другим членам политбюро: «Обнаружено несколько проектов записок в адрес руководителей правительства… в которых “исторически” обосновывается необходимость создания [еврейской] республики».

П.А. Судоплатов
Выходит, не «крымское письмо» стало причиной смерти Михоэлса и последующих антиеврейских репрессий. Скорее наоборот – тайная расправа, с которой начался запуск этих репрессий, превратила «крымское письмо» в руках властей в средство их оправдания, а также в один из главных инструментов начавшейся тогда же фальсификации будущего «дела ЕАК».
Интерпретируя «крымскую историю» в духе голливудского шпионского боевика, Судоплатов в главе с интригующим названием «Калифорния в Крыму» пишет, что, отправляясь в США, Михоэлс и Фефер получили на Лубянке секретное задание установить контакты с американскими сионистскими кругами, прозондировав их реакцию на якобы исходившую от советских верхов идею создания еврейской республики на «лакомом» полуострове. Под этот проект Сталин будто бы рассчитывал получить от США – ни много ни мало – 10 миллиардов долларов (цифра воистину фантастическая!), то есть почти столько же, сколько американцы выделили СССР за всю войну по ленд-лизу. А дальше – еще занятнее: утверждается, что руководители ЕАК, направившие 15 февраля 1944 года Сталину «крымское письмо», сделали это буквально на следующий день после получения их «куратором» Берией приказа о депортации крымских татар4. Но если разобраться, реально все обстояло совершенно по-другому: решение ГКО «О выселении всех татар с территории Крыма» принимается по проекту Берии только 11 мая 1944 года, на второй день после освобождения полуострова Красной Армией, а депортация проводится 18-19 мая (у Судоплатова: в марте – апреле (?!).
Конечно, после того как в конце 1943 года была осуществлена поголовная депортация калмыков, обвиненных в пособничестве врагу, в восточные районы, руководители ЕАК не могли не предполагать, что подобная участь может быть уготована и крымским татарам. Тем более, что соответствующее обсуждение в кремлевских верхах, возможно, началось за несколько месяцев до самой акции, и появившиеся в результате слухи могли так или иначе уже тогда достичь ушей Михоэлса и его единомышленников, имевших в этих сферах весьма надежные источники информации. Однако если даже предположить, что, спешно подготовив свое послание, руководители ЕАК хотели воспользоваться, так сказать, благоприятным моментом, то это отнюдь не означает, что таким образом они могли спровоцировать депортацию коренного населения с этого полуострова. Ибо татары, да и другое неславянское население Крыма, и без того были, если так можно выразиться, обречены на выселение. Этническая чистка в Крыму, который всегда рассматривался советским руководством как стратегический участок обороны страны, была по большому политическому счету уже предрешена, и Сталин только выжидал удобного момента и искал подходящий повод, чтобы привести в действие скорей всего давно задуманный радикальный план укрепления безопасности этого южного подбрюшья своей империи. И разумеется, он, сугубый прагматик, лишенный каких-либо сантиментов, никогда не собирался заполнять этнический вакуум, образовавшийся на полуострове после депортации, за счет евреев, как надеялись руководители ЕАК, мыслившие совершенно иначе: иллюзорно мечтавшие о Крыме как о некоем воздаянии за беспрецедентные страдания их соплеменников в годы войны. В кабинетах Кремля давно созревало другое решение, волею случая сформулированное еще в ноябре 1938 года одним из руководящих работников аппарата ЦК ВКП(б) после очередной инспекционной поездки в Крым. «Переселять же в Крым можно и нужно, – докладывал он тогда по начальству, выделяя главное – …Помимо экономического значения этого переселения, оно имеет и оборонное значение. Если принять во внимание многонациональность населения Крыма и то, что в некоторых районах есть колхозы исключительно из иностранных подданных (греки), а также учесть, что националистические элементы (татары и др.) раньше очень ориентировались на своих единоверцев – турок (да, вероятно, и теперь не перестают питать некоторые надежды в особенности же в связи с изменением ориентации Турции), то со всей очевидностью станет ясной необходимость и полезность срочного переселения в Крым свежего колхозника из центральных областей СССР».
Именно так в конечном счете и произошло. В июне 1944 года вслед за татарами из Крыма были выселены греки, болгары, армяне и другие нацменьшинства, а вместо них, в соответствии с постановлениями советского правительства, с осени стали прибывать переселенцы из Украины, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей РСФСР.
Не менее сомнительно и придание Судоплатовым «крымской инициативе» статуса некоего крупного международного проекта, отмеченного участием самых влиятельных политических сил послевоенного мира и ставшего чуть ли не ключевым в послевоенных советско-американских политических отношениях.
Не утруждая себя какими-либо документальными доказательствами на сей счет, автор заявляет, будто перспектива заселения Крыма евреями обсуждалась Сталиным сначала, в июне 1944 года, с президентом американской торговой палаты Э. Джонстоном и послом США в СССР А. Гарриманом, а потом, «сразу же после войны», – с делегацией американских сенаторов. Однако после наступления холодной войны, как уверяет далее Судоплатов, «наши надежды на получение еврейских капиталов рухнули… и первой жертвой смены курса стал Михоэлс, находившийся в самом центре дискуссии по созданию еврейской республики в Крыму»7. Что касается упомянутых встреч, то они действительно имели место. Однако документально зафиксированное содержание состоявшихся при этом бесед, разумеется, не имеет ничего общего с тем, что утверждается Судоплатовым. Скажем, из множества объективных свидетельств известно, что 26 июня 1944 года Сталин в обществе Молотова, Маленкова, Берии и Щербакова принимал в Кремле тех же Джонстона и Гарримана. Сохранилась и запись состоявшегося тогда разговора, которая была опубликована потом в официальном издании МИДа. Судя по этой записи, в течение почти трехчасового общения в центре обоюдного внимания были главным образом проблемы возрождения советской промышленности после войны и налаживания торговли между двумя государствами в мирное время. При этом Джонстон выказал заинтересованность в крупномасшабном приобретении в СССР различного сырья, а Сталин даже пообещал разместить в США миллиардные заказы. Обсуждались также шансы Ф. Рузвельта и его соперников на предстоявших президентских выборах и некоторые другие вопросы. Но в этой записи нет и намека на то, о чем пишет Судоплатов (кстати, в этой встрече не участвовавший и не располагавший никакой информацией о ней): Джонстон якобы был принят Сталиным «для обсуждения проблем возрождения областей, бывших главными еврейскими поселениями в Белоруссии, и переселения евреев в Крым». О том же самом Сталин будто бы беседовал после войны и с американскими сенаторами, о чем Судоплатову стало известно, как он утверждает, из некоего сообщения, правда, им не уточняется, из какого именно. Между тем в официальной записи зафиксирована немаловажная реплика Джонстона о том, что тот считал себя специалистом по промышленности и профаном в сельском хозяйстве. Вот почему Джонстон после встречи со Сталиным направился из Москвы отнюдь не в освобожденный Красной Армией Крым, что было бы логично в свете утверждений Судоплатова, а предпринял поездку по промышленным предприятиям Урала8. И еще. По поводу самой официальной записи кремлевской беседы от 26 июня 1944 года может возникнуть резонное предположение: не изымались ли из нее в ходе подготовки публикации «неудобные» для советской власти сюжеты, среди которых, чем черт не шутит, мог быть и «крымский»? Конечно, в 1984 году, когда была осуществлена данная публикация и когда свирепствовала цензура, все было возможно. Однако не похоже, что подобное имело место в данном конкретном случае. Ведь все изъятия из оригинальных архивных документов, составивших основу сборника, в обязательном порядке обозначались публикаторами во главе с академиком Г.А. Арбатовым отточием, а таковой знак в напечатанном тексте интересующей нас беседы вообще отсутствует.

Фефер и Михоэлс с актером Эдди Кантором в Голливуде. 1943 год.
Итак, ни советскими, ни американскими документальными источниками, заслуживающими доверия, приведенные Судоплатовым «факты» по Крыму не подтверждаются. Тем не менее у него нашелся последователь, который поведанную бывшим супершпионом «крымскую историю» довел до абсурда. Речь идет о книге В.В. Левашова «Убийство Михоэлса», выпущенной в свет издательством «Олимп» в 1998 году 11-тысячным тиражом и переизданной им в 2003-м еще в количестве 3000 экземпляров. При нынешней моде на всякого рода документальные сюжеты это сочинение, думается, отнюдь не случайно было широко разрекламировано; даже его жанровая характеристика, слово «роман», набрали не как обычно, на титуле, ниже заголовка, а упрятали в последний абзац напечатанной мелким шрифтом аннотации. Не исключено, что данный маневр был предпринят специально, дабы сбить с толку неискушенного читателя. Правда, в роман местами вкраплены реальные исторические материалы – фрагменты из стенограммы судебного процесса по «делу ЕАК», выдержки из тогдашних газетных публикаций и литературных произведений, отдельные решения высших органов власти. К финальной главе даже подверстаны тексты нескольких рассекреченных и чрезвычайно важных документов из Центрального архива ФСБ РФ. Однако не эти элементы реального прошлого составляют основное содержание книги. В ней им отведена всего лишь иллюстративная функция, точнее – роль формального сертификата достоверности, внешней отделки некоей литературной конструкции, возведенной отнюдь не по канонам историзма, а по далекой от них произвольной концепции автора.
Пожалуй, единственная правда в сочинении Левашова – это мысль, что за убийством Михоэлса и гонениями на евреев в СССР стоял Сталин. Все остальное – политико-шпионские страсти вокруг «крымского проекта», поданные в форме индивидуальных или совместных размышлений героев, а также тексты «сверхсекретных» документов. Они уж точно – или плоды фантазии самого Левашова, или заимствования у того же Судоплатова и подобных ему сочинителей, поставивших в свое время фабрикацию сенсационных «фактов» на поток.
Иначе как «развесистой клюквой» трудно назвать многочисленные «откровения» Левашова. Во время войны, к примеру, Сталин вдруг уразумел, что Еврейская автономная область на Дальнем Востоке самим фактом своего возникновения не решила «еврейский вопрос», и, в целях исправления ошибки, замыслил глобальную политическую игру под названием «Создание еврейской республики в Крыму». Этот лжепроект как своего рода «дохлую кошку» он намеревался подбросить союзникам. Для того, оказывается, и был в 1943 году командирован в США лидер советской еврейской общественности Соломон Михоэлс, которого Молотов по наущению Сталина предварительно проинструктировал, как преподнести там идею еврейского Крыма, выдав ее за собственную. Американские спецслужбы, однако, не дремали и очень быстро установили, что отцом «крымского проекта» является сам «дядюшка Джо». Быть может, поэтому, едва Михоэлс и Фефер двинулись из гостеприимной Америки в обратный путь, тамошние промышленно-финансовые «воротилы» из числа евреев, съехавшись, решили под диктовку председательствовавшего на этом форуме Э. Джонстона выделить на обустройство Крыма около 10 млрд. долларов (имя и цифра уже знакомы нам по книге Судоплатова!). Об этом «историческом решении» Берия, а через него и Сталин узнали из «шифровки» агента Хейфеца-Брауна, получившего, в свою очередь, информацию от присутствовавшего на встрече еврейских толстосумов Америки помощника госсекретаря Соединенных Штатов Д. Карригана, завербованного на гомосексуальной почве советской разведкой. Тем временем возвратившегося на родину Михоэлса, а также С.А. Лозовского Сталин чуть ли не силком заставляет через Молотова написать на его имя «крымское письмо». Сопротивляющийся, но вынужденный в конце концов подчиниться Михоэлс все же морально не сломлен, его одолевают муки совести от сознания того, что он стал игрушкой в руках диктатора, чей «крымский проект» неминуемо должен ввергнуть еврейство в пучину новой катастрофы, а весь остальной мир – в кровавое безумие третьей мировой войны. Обуреваемый этими тревожными предчувствиями и к тому же будучи в душе приверженцем сионизма, Михоэлс решается раскрыть глаза американцам на коварные замыслы Сталина. Осуществить свой замысел он планирует в конце января 1948 года, когда по решению одураченных советским лидером президента Г. Трумэна и госсекретаря Д. Маршалла в Москву должна была прибыть специальная делегация под руководством А. Гарримана, которому предстояло поставить свою подпись под окончательным советско-американским соглашением по Крыму. Узнав о «предательском» намерении «неблагодарного» Михоэлса, Сталин приказывает его ликвидировать; однако это тайное убийство парадоксальным образом перечеркивает зловещие планы диктатора. Озадаченный неожиданной и загадочной гибелью Михоэлса, президент Трумэн требует от Сталина дополнительной гарантии выполнения будущего «крымского договора» – полной демилитаризации полуострова, в том числе ликвидации баз Черноморского военного флота, грозя в противном случае отказаться от уже принятого решения включить СССР в «план Маршалла». Поняв, что его «крымская карта» бита и ему не удастся «кинуть» американцев на несколько миллиардов долларов, взбешенный Сталин решает отыграться на своих еврейских подданных, приказав Абакумову незамедлительно бросить членов ЕАК за решетку (на самом деле эти аресты состоялись год спустя, в конце 1948 – начале 1949 гг.) и приступить к подготовке судилища над ними.
Такова фабула разухабистого романа Левашова, которого формально, впрочем, нельзя обвинить в фальсификации истории. Ведь избранный им литературный жанр автоматически дает право на так называемый художественный вымысел. Однако неписаные правила хорошего литературного вкуса требуют от мастеров слова бережного отношения к исторической реальности, допуская буйство фантазии в основном при создании вымышленных образов. Еще большая ответственность ложится на плечи создателей книг, подобных той, что вышла из-под пера Левашова, где фигурируют только реальные люди, в том числе и хорошо известные миру исторические личности. И поскольку люди в большинстве своем судят об истории именно по романам, очень важно, чтобы историческая проза хотя бы не пыталась перевернуть прошлое с ног на голову. А ведь именно это и произошло в книге Левашова. И чтобы читатель смог в том наглядно убедиться, пришлось обременить его внимание схематичным изложением основного содержания книги. А теперь начнем разбираться конкретно.
Обратимся в первую очередь к стенограмме судебного процесса 1952 года по «делу ЕАК», который продолжался более двух месяцев и на котором детально расследовались все инкриминировавшиеся подсудимым эпизоды, в том числе и обстоятельства, связанные с появлением «крымского письма», его отправкой в Кремль и последовавшими потом событиями. Но сначала одно важное предварительное замечание: нет оснований сомневаться в том, что подавляющее большинство включенных в эту стенограмму показаний достаточно правдиво. Ведь в ходе процесса все подсудимые так или иначе отказались от самооговоров, к которым пытками и психологическим давлением их принудили работники МГБ на предварительном следствии. Кроме того, хотя адвокаты в процессе не участвовали (как, впрочем, и прокурор), подсудимые могли защищаться самостоятельно. и некоторые из них – в первую очередь С.А. Лозовский, Л.С. Штерн и Б.А. Шимелиович – блестяще использовали эту возможность, до последней минуты надеясь, что смогут доказать свою невиновность. С отчаянием обреченных они боролись до конца, причем спасения ради вынуждены были иногда отрицать очевидное, что само по себе понятно и полностью оправданно, но, к сожалению, не может не затруднить предпринимаемого постфактум поиска истины.
Так вот, после тщательного изучения выступлений обвиняемых на процессе по «делу ЕАК», воспоминаний их родных, некоторых официальных документов, всплывших в ходе реабилитации, и других заведомо достоверных материалов возникают следующие соображения. Бесспорно главное: идея еврейского Крыма обязана своим рождением руководству ЕАК, а отнюдь не коварству Сталина и проискам его подручных. И возникла она на волне той стихийной демократизации, которой сталинский режим в интересах самовыживания вынужден был в определенных рамках попустительствовать во время войны. Другой важнейший фактор – реакция руководителей ЕАК на Холокост. Их почти инстинктивное желание сохранить хоть где-то – поначалу даже и не в Крыму, а на территории ликвидированной в 1941 году Республики немцев Поволжья – остатки спасшегося еврейства, не только советского, но и польского, и румынского, пребывавшего тогда на территории СССР. Свою роль сыграли, кроме того, разбуженное войной и усилившимся антисемитизмом национальное чувство и явный провал с решением «еврейского вопроса» в виде создания специальной автономной области на Дальнем Востоке. Все эти серьезные аргументы так или иначе присутствуют в «крымском письме». Один из его авторов, И.С. Фефер, сказал во время процесса: «…Примерно с 1942 года у нас в ЕАК начались разговоры о том, что все еврейские учреждения ликвидированы… и возник вопрос о Крыме». Нечто аналогичное припомнил и еще один обвиняемый – И.С. Ватенберг: «Когда мы вместе с Эпштейном (который станет одним из руководителей вскоре созданного ЕАК. – Г.К.) эвакуировались из Москвы (то есть осенью 1941 года. – Г.К.) и ехали с ним в одном вагоне, то он затронул вопрос о Республике немцев Поволжья. Я ему ответил, что есть Еврейская автономная область, и поскольку есть возможность переселяться, то пусть желающие переселяются»9.
Перед отъездом Михоэлса и Фефера в США в 1943 году А. Щербаков и С. Лозовский поставили перед ними две главные задачи: посредством пропагандистских акций повлиять на американскую общественность и получить от состоятельных евреев как можно больше «денег в фонд обороны СССР». На состоявшемся тогда в ЦК ВКП(б) инструктаже вопрос о Крыме вообще не поднимался10.

Михоэлс и Фефер на митинге на стадионе «Поло-Граунд»
Вместе с тем есть все основания полагать, что превращение «крымского проекта» из неясной идеи, спонтанно возникшей в головах руководителей ЕАК, в насущную, жизненно важную и конкретную цель произошло только в ходе триумфальной поездки посланцев советского еврейства по Америке. Во многом этому способствовали встречи Михоэлса и Фефера с Джеймсом Н. Розенбергом, членом Еврейского комитета Совета военной помощи России («The Council for Russian War Relief») и одним из руководителей «Джойнта», американской благотворительной организации, еще в 1942 году предлагавшей властям СССР обсудить вопрос об оказании помощи советским евреям11. Довольно влиятельный и богатый человек, Розенберг еще в 1926 году по делам дочерней компании «Агро-Джойнт» побывал в Советской России. Тогда-то он и проявил себя горячим сторонником проводившейся при поддержке советского правительства еврейской сельскохозяйственной колонизации Крыма. До появления на горизонте Биробиджана территория Крыма официально рассматривалась как наиболее подходящее место для еврейской автономии.
Розенберг прежде не встречался ни с Михоэлсом, ни с Фефером. Познакомились они, таким образом, только летом 1943 года в Нью-Йорке. Правда, не известно, в какой именно день. На предварительном следствии Фефер показал, что это случилось в конце июня 1943 года, хотя позже, на процессе, называл уже 8 июля, уточнив, что встреча состоялась на нью-йоркском стадионе «Поло-Граунд» сразу по завершении массового митинга солидарности в честь посланцев Москвы12. Возможно, Розенберг после митинга пригласил новых знакомых на свою загородную виллу, где, по словам Фефера, за обедом и произошел первый разговор о Крыме. Несмотря на то что Фефер, возможно, перепутал день этой встречи (прошло ведь шесть лет), достоверность того, что она состоялась, в общем-то не вызывает сомнений. И хотя беседа на вилле носила неофициальный характер, при ней присутствовал и советский генеральный консул Е.Д. Киселев, взявший на себя обязанности переводчика.
Никто, кроме Фефера, на процессе по «делу ЕАК» уже не мог поведать о личных встречах с американцами в 1943 году. Опираясь, за неимением лучшего, на его досудебные показания (предварительно очищенные от тенденциозной редактуры следователей) и на сказанное им затем перед судом, попытаемся реконструировать беседу, состоявшуюся шестьдесят лет тому назад в загородном доме американского миллионера-благотворителя.
После обычного светского обмена любезностями первыми, видимо, перешли к делу, «взяв быка за рога», гости, попросившие Розенберга ходатайствовать перед руководством «Джойнта» о немедленном оказании материальной помощи и советским евреям, и другим нуждающимся в СССР. На что тот резко возразил: «Вы только просите, а толку от вас никакого! Вспомните – в связи с созданием еврейской колонии в Крыму мы ухлопали свыше 30 миллионов долларов, а что проку? Крым не ваш, вас оттуда выгнали…» Потом после паузы, призванной усилить эффект, произведенный его решительными словами, Розенберг, несколько смягчившись, продолжил: «…Если советское правительство разрешит заселение Крыма евреями, мы («Джойнт». – Г.К.) будем оказывать вам материальную помощь». И произнес в конце концов мечтательно: «Роскошное место Крым. Черное море, Турция, Балканы…» Припомнив на суде эту последнюю, в чем-то, быть может, двусмысленную фразу, Фефер поспешил уточнить: Розенберг имел в виду только то, что Крым – завидное место для будущей еврейской республики, и прямого разговора о превращении Крыма в военный плацдарм против СССР (вопреки версии следствия!) не было13.
В словах Фефера, положенных в основу данной реконструкции, присутствовала, разумеется, большая доля истины, в чем можно наглядно убедиться, сопоставив их с подлинным документом «Джойнта», где отражено официальное отношение этой организации в 1944 году к мнению Розенберга по поводу Крыма. К мнению, которое, безусловно, сложилось и результате встреч с Михоэлсом и Фефером: «Г-н Розенберг настаивает на том, чтобы мы запросили г-на Киселева, советского Генерального консула в Нью-Йорке, о намерениях СССР – в надежде, что “Джойнт” сможет принимать участие в восстановлении там (в Крыму. – Г.К.) еврейских сельскохозяйственных поселений. Позиция комитета (“Джойнта”. – Г.К.) заключается в том, что сейчас преждевременно обращаться с запросами к советскому правительству с любыми планами поселения евреев в Крыму. Более того, с тех пор как “Джойнт” и другие организации затратили приблизительно 30 миллионов долларов на программу аграрных поселений евреев в Крыму и на Украине, есть опасность, что подобная дискуссия могла бы показать Советскому правительству, что столь огромная сумма вновь доступна. В 1938 году «Джойнт»… был вынужден покинуть Россию по требованию советских властей…»
Как видим, Розенберг настаивал на немедленном возрождении былого сотрудничества с СССР, связанного с еврейской колонизацией Крыма, не особенно принимая в расчет официальное мнение руководства «Джойнта», хотя и опираясь на поддержку своего влиятельного единомышленника, председателя Еврейского комитета Совета военной помощи России Луиса Левина. Но, как предположил на процессе по «делу ЕАК» И.С. Ватенберг, ранее живший в США и хорошо знавший амбициозный характер Розенберга, того «очень мало волновал… вопрос о создании Еврейской республики». Крым его занимал только потому, что в свое время “Джойнт” туда вложил много денег и он чувствовал, что потерял лицо в этом деле».

Джеймс Розенберг
Между тем, окрыленные многообещающими заверениями Розенберга, Михоэлс и Фефер сделали, как утверждает современный американский историк М. Мицель, ошибочные выводы, поверив в наличие у их американских партнеров по переговорам грандиозных планов сотрудничества с Россией16. То есть попросту обманулись, приняв желаемое – гарантию американцев поддержать создание еврейской республики в Крыму – за действительное. Тем не менее какая-то часть ответственности за это роковое заблуждение, несомненно, лежала и на Розенберге, одном из руководителей «Джойнта». Не выразился ли его «особый подход» (о нем пишет тот же М. Мицель17) к возможному еврейскому будущему Крыма в том, что в кулуарах он твердо заверил Михоэлса и Фефера: дерзайте, мол, добейтесь от своего правительства Крыма, и тогда мы окажем вам щедрую и обильную помощь? Возможно, его авансы и стали тем ultima ratio, который потом толкнул руководителей ЕАК на безрассудный поступок…
Но посланцы Москвы грезили наяву о будущем Крыма не столько потому, что были так уж легковерны, сколько из-за охватившего их еще до поездки в США горячего желания во что бы то ни стало хоть чем-то помочь своему многострадальному народу. И все же по возвращении в конце ноября 1943 года в Москву, одержимые иллюзорными упованиями, находясь в эйфории, Михоэлс и Фефер первым делом объявили Лозовскому: «Розенберг обещал материальную помощь “Джойнта” в случае заселения Крыма евреями».
О той памятной встрече вспоминал на процессе многоопытный и блестяще защищавший себя Лозовский, и не верить его словам нет оснований. Да и сами Михоэлс и Фефер, не располагай они щедрыми обещаниями Розенберга, наверное, так и не решились бы на встречу с Молотовым. Аудиенции у него они скорее всего добились через того же Лозовского, заместителя Молотова по НКИДу.
На прием ко второму человеку в государстве явились трое: вместе с Михоэлсом и Фефером пришел и Эпштейн, ответственный секретарь ЕАК, руководивший всей текущей работой в комитете. Поскольку Эпштейн, как уже говорилось, выступал за создание еврейской республики на месте ликвидированной автономии немцев Поволжья, то наряду с Крымом был предложен и этот проект. Однако Молотов сразу же отверг его, мотивировав свои возражения тем, что население бывшей немецкой республики в основном занималось сельским хозяйством, а «евреи народ городской и нельзя сажать евреев за трактор». В отношении же Крыма он заметил: «…Пишите письмо, и мы его посмотрим»19 .
И хотя смысл этих осторожных слов был довольно неопределенным, руководители ЕАК решили, как потом показал на суде Лозовский, что «…Молотов “обещал”, значит, вопрос почти решен, а если еще не решен, то во всяком случае “на мази”». Исполненные лихорадочного оптимизма, они поспешили не только поделиться своей призрачной радостью с коллегами, друзьями и знакомыми, но тотчас принялись делить «шкуру неубитого медведя» – распределять министерские портфели в будущем правительстве еврейской республики. Словом, направив 15 февраля Сталину подготовленное при участии Лозовского письмо с предложением создать Еврейскую советскую социалистическую республику на территории Крыма, Михоэлс, Фефер и Эпштейн не сомневались в положительном решении правительства.
Однако проходили дни, а ответа из Кремля не было. И тогда слегка обеспокоенные авторы письма решили подстраховаться: направили 21 февраля его дубликат уже непосредственно Молотову. Причем, чтобы знать наверняка, что данное послание попадет адресату, Михоэлс передал его через П.С. Жемчужину, жену Молотова, которая была с ним дружна, и не только имела большое влияние на мужа, но и выказала личную заинтересованность в успехе задуманного. Она тогда сказала Михоэлсу многозначительно: «Можно жить где угодно, но надо иметь свой дом и крышу».
Однако к тому времени, когда «крымское письмо» дошло до Молотова, Сталиным вопрос был, вероятно, уже решен. И решен отрицательно. В пользу такого предположения говорит многое. Прежде всего, знакомясь с наиболее важными документами, Сталин, если был склонен к принятию решения, обычно не задерживал их у себя, а, изложив в резолюции собственное мнение, направлял «по принадлежности» – руководству того или иного ведомства (ЦК ВКП(б), СНК СССР, Наркомата обороны и др.). Те, в свою очередь, готовили проект соответствующего постановления (политбюро, оргбюро ЦК, СНК СССР…).
В случае с «крымским письмом» ничего подобного не было. Наверняка Сталин посчитал его слишком странным, может быть, даже вздорным, чтобы быть рассмотренным по привычной схеме. 19 февраля он почти три часа совещался в своем кремлевском кабинете с Молотовым, Маленковым, Микояном и Щербаковым21. Возможно, тогда он и высказал свое отношение к «крымской инициативе» руководителей ЕАК. Что именно говорил он в тот день, сейчас установить невозможно. Ясно одно: утопическое предложение Михоэлса и его единомышленников для прагматичного антисемита Сталина, обремененного в ту пору куда более важными делами, было неприемлемо в принципе. Но бесспорно также, что их замысел еще не расценивался им как нечто опасное и тем более преступное. Вероятнее всего вождь просто решил похерить это необычное послание, оставив его без последствий. И тут нет ничего удивительного. В то время, как, впрочем, и сейчас, тысячи направляемых в высшие инстанции обращений «простых граждан» (а «крымское письмо», по совету Лозовского, было составлено именно как частное послание) остаются без ответа; их просто сплавляют в архив.
Что до самой идеи авторов «крымского письма», идеи радикального решения вопроса о Еврейской автономии, то подобные «прожекты» тогда тоже были не в диковинку и воспринимались властями вполне равнодушно. Скажем, в августе 1944 года обком партии Северной Осетии информировал ЦК ВКП(б) о том, что в республике «широко» ведутся разговоры насчет сбора подписей под письмом Сталину «о переселении осетин в Крым – якобы потому, что осетинский народ хорошо показал себя в Отечественной войне…»22 Или еще один, совсем недавно обнаруженный факт. В марте 1945 года из Италии в Москву на имя Молотова было отправлено скрепленное печатью «Римского еврейского комитета» послание, предлагавшее союзным державам после победы над нацистской Германией рассмотреть вопрос о создании еврейского государства на ее территории. Впрочем, в сравнении с этими причудливыми плодами общественной инициативы еще более фантастическими выглядели, как это ни парадоксально, проекты, вызревавшие в головах политиков-профессионалов. В.А. Тарасенко, бывший заместитель представителя Украины в Совете Безопасности ООН Д.З. Мануильского, писал 11 февраля 1950 года Сталину: «Во время обсуждения Палестинского вопроса осенью 1948 года (война Израиля со странами Арабской лиги. – Г.К.) у тов. Мануильского возникла идея внести в ЦК ВКП(б) предложение, чтобы Советский Союз предоставил возможность палестинским арабским беженцам (свыше 500 тыс. чел.) поселиться в Советском Союзе в районе Средней Азии, с тем чтобы впоследствии образовать Арабскую Союзную республику или автономную область».
Вернемся, однако, к «крымскому
письму». Направленный Сталину его оригинал до сих пор не обнаружен и вероятнее всего не сохранился. Тем не менее дубликат, предназначенный Молотову, в 1991 году автором этих строк был найден в бывшем Центральном партийном архиве и тогда же опубликован.
Возможно, 22 февраля, когда Молотов в Кремле (вместе с Маленковым, Микояном и Щербаковым) снова продолжительно беседовал со Сталиным, он попытался еще раз заинтересовать его посланием Михоэлса. Но, поняв, что «хозяина» не переубедишь, отступил. После чего ему, первому заместителю Сталина по СНК СССР, оставалось только «расписать» «крымское письмо» скорее «на ознакомление», чем «на исполнение» Маленкову, Микояну, Вознесенскому и Щербакову. В итоге – закономерный финал: 28 февраля А.С. Щербаков «списал» ненужную бумагу в архив.
Даже если руководителям ЕАК официально не сообщили об отклонении правительством их проекта, те так или иначе вскоре обо всем узнали. Однако они до того были зачарованы собственной мечтой, что продолжали громогласно обсуждать перспективы в общем-то уже абсолютно безнадежного предприятия. Конечно, это не укрылось от Сталина, и тот поручил Л.М. Кагановичу окончательно «закрыть» вопрос, принимавший скандальную форму. Впоследствии на суде Фефер рассказал, что в середине 1944 года его, Михоэлса и Эпштейна «срочно» вызвал к себе Каганович. «Часа два или больше [он] разбивал нашу докладную записку о Крыме исключительно по практическим соображениям… Он говорил… что евреи в Крым не поедут… что только артисты и поэты могли выдумать такой проект». После столь явного предостережения сверху руководители ЕАК хотя и несколько затаились, прекратив открыто обсуждать «крымский проект», однако полностью так и не отказались от своей нереальной затеи. В записке М.А. Суслова Сталину и другим членам политбюро от 19 ноября 1946 года особо отмечалось, что, судя по выступлению Фефера на заседании президиума ЕАК от 23 октября 1945 года, которое не встретило возражений со стороны других руководителей комитета, «ЕАК намерен ставить перед правительством СССР даже вопросы территории (видимо, новой территории, кроме Биробиджана) для еврейского населения».

Фефер делится своими впечатлениями об Америке. Слева направо: Галкин, Квитко, Эпштейн, Бергельсон
Вот этот тлеющий фитилек плюс усиление противостояния двух систем, ознаменовавшееся и в СССР, и в США так называемой «охотой на ведьм», в конечном счете и привели к тому, что у специалистов из МГБ по борьбе с американской и сионистской агентурой возникла мысль превратить старый «грешок» своих потенциальных «клиентов» в крупное политическое «дело». Однако произошло это, как уже говорилось, после убийства Михоэлса; только тогда на Лубянку поступил соответствующий «заказ» от Сталина. И лишь с этого момента правомерно квалифицировать «крымскую историю» как провокацию властей. Именно в эту пору Крым, по образному выражению Лозовского на суде, стал обрастать «такой шерстью, которая превратила его в чудовище».
Тот же Лозовский бесстрашно заклеймил на процессе мифотворчество «органов» (назвал его словами Н.Г. Помяловского «фикцией в мозговой субстракции»), гневно обличал тех следователей, что пытались представить «крымскую историю» как международную шпионскую интригу, направленную против государственной безопасности СССР. Однако и для тогдашних властей предержащих, и для тех, кто ныне продолжает фальсифицировать историю, так и остались гласом вопиющего в пустыне его предсмертные слова: «Ни одна из 12 тысяч газет и журналов не ставила тогда этого вопроса (о Крыме. – Г.К.), ни один государственный деятель США не думал на эту тему… Кто-то якобы сообщил, что американское правительство вмешалось в это дело (крымское. – Г.К.). Это значит – Рузвельт. Я должен сказать, что осенью 1943 года Рузвельт встретился со Сталиным в Тегеране. Смею уверить вас, что… там о Крыме ничего не говорилось. В 1945 году Рузвельт прилетел в Крым … Он не прилетел ни к Феферу, ни к Михоэлсу, и не по делу заселения евреями Крыма, а по более серьезным делам».
И в самом деле, в материалах Тегеранской, Ялтинской, а также Потсдамской конференций союзников, как, впрочем, и во всех других международных дипломатических документах военного и послевоенного времени, о «крымском проекте», который никогда не обсуждался на межгосударственном уровне, ровным счетом ничего нет. Не подтверждаются документально и встречи Сталина с А. Гарриманом, с американскими сенаторами, другие распаляющие воображение читателей подробности «крымской истории», уже в наше время придуманные бывшим супершпионом Судоплатовым и прозаиком Левашовым.
Вот так и возникает парадокс: уже, кажется, преданы гласности все преступные тайны прежнего режима и должна вроде бы в полной мере восторжествовать историческая правда; но мифы не умирают. Их творцы вместо того, чтобы признать очевидное – крымская утопия это мертворожденный плод мутагенного симбиоза двух противоположностей (такое случается как в природе, так иногда и в политике): обостренной Холокостом сионистской мечты и сталинского тоталитаризма – продолжают сочинять небылицы в жанре шпионско-политического детектива. Только раньше фальсификации подобного рода, по выражению Лозовского, пахли кровью, а теперь, слава Б-гу, «пахнут» всего лишь дурным вкусом, ложными сенсациями, идеологическими догмами. Ну, и, конечно, деньгами.
* * *
В последней книге Ж.А. Медведева, помимо уже разобранных сюжетов, значительный интерес представляют и главы, посвященные «делу врачей». Но эта тема требует отдельного обсуждения, а значит – и новой статьи.
1 Судоплатов П.А. Разведка и Кремль. Записки нежелательного свидетеля. М.: ТОО «Гея», 1996. С. 350.
2 Там же.
3 Медведев Ж.А. Сталин и «дело врачей». Новые материалы// Вопросы истории. 2003. № 1. С. 82.
4 Медведев Ж.А. Сталин и еврейская проблема. Новый анализ. М.: Права человека, 2003. С. 17.
5 Там же. С. 17,18.
6 Мухин Ю.И. Убийство Сталина и Берия. М.: Крымский мост – 9Д, Форум, 2002. С. 663-673.
7 Левашов В.В. Убийство Михоэлса. М.: Олимп, 2003. С. 400-408.
8 Попов А.Ю. 15 встреч с генералом КГБ Бельченко. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. С. 274,275.
9 Медведев Ж.А. Сталин и еврейская проблема. Новый анализ. С. 23, 24, 55.
10 Борщаговский А.М. Обвиняется кровь. М.: Прогресс-Культура, 1994. С. 11.
11 Медведев Ж.А. Указ. соч. С. 57, 58.
12 Там же. С. 25.
13 Исторический архив. 1996. № 5-6. С. 23.
14 Центральный архив ФСБ РФ. Показания арестованного В.И. Комарова от 15-22 июля 1953 г.
15 Левашов. Указ. соч. С. 400.
16 Шатуновская Л. Жизнь в Кремле. N.Y.: Chalidze Publication, 1982. С. 272.
17 Вовси-Михоэлс Н. Мой отец Соломон Михоэлс. Воспоминания о жизни и гибели. М.: Возвращение, 1997. С. 191.
18 Там же. С. 192.
19 Левашов В.В. Указ. соч. С. 405.
20 Михоэлс Соломон Михайлович. Статьи, беседы, речи. Воспоминания о Михоэлсе / Под ред. К.Л. Рудницкого. М.: Искусство, 1964, С. 504.
21 Ваксберг А.И. Из ада в рай и обратно. Еврейский вопрос по Ленину, Сталину и Солженицыну. М.: Олимп, 2003. С. 301, 302.
22 Костырченко Г.В. В плену у красного фараона. Политические преследования евреев в СССР в последнее сталинское десятилетие. М.: Международные отношения, 1994. С. 346.
23 Как показал С.И. Огольцов, Судоплатов лично не был информирован о «спецоперации» (Левашов В.В. Указ. соч. С. 400).
24 Левашов В.В. Указ. соч. С. 404, 405.
25 Медведев Ж.А. Указ. соч. С. 58; Борщаговский А.М. Указ. соч. С. 80.
26 Левашов В.В. Указ. соч. С. 400.
27 Там же. С. 407.
28 Борщаговский А.М. Обвиняется кровь. С. 3; Гейзер М.М. Михоэлс: жизнь и смерть. М.: Гласность, 1998. С. 270
29 Борщаговский А.М. Записки баловня судьбы. М.: Советский писатель, 1991. С. 152,153.
30 Левашов В.В. Указ. соч. С. 407.
31 Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы /В. Наумов, Ю. Сигачев. М.: МФ «Демократия», 1999. С. 27.
32 Об этом свидетельствует первая и единственная за 12 января 1948 г. запись в журнале регистрации посетителей кремлевского кабинета Сталина (Исторический архив. 1996. № 5-6. С. 25).
33 Аллилуева С.И. Только один год. М.: Книга, 1990. С. 134.
34 Левашов В.В. Указ. соч. С. 401, 407.
35 Ж.А. Медведев почему-то пишет, не ссылаясь при этом на какие-либо источники, что «экспертиза не установила наличие алкоголя в крови умерших» (указ. соч. С. 19).
36 Левашов В.В. Указ. соч. С. 407.
37 Исторический архив. 1996. № 5-6. С. 25.
38 Костырченко Г.В. Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм. М.: Международные отношения, 2003. С. 384.
39 Известия ЦК КПСС. 1989. № 3. С. 155.
40 РГАСПИ. Ф. 589. Оп.3. Д. 6188. Л. 12-26; Ефремов Л.Н. Дорогами борьбы и труда. Ставрополь, 1998. С. 12-14.
41 Левашов В.В. Указ. соч. С. 401.
42 Коммерсант-Daily. 1995. 9 сент.
43 Борщаговский А.М. Обвиняется кровь. С. 44, 48.
44 Медведев Ж.А. Указ. соч. С. 57, 58.
45 Там же. С. 58, 70, 74.
46 Там же. С. 55-57, 114.
47 Там же. С. 92, 93, 111.
48 Там же. С. 118-120.
49 Кожинов В.В. Россия. Век ХХ-й (1939–1964). (Опыт беспристрастного исследования). М.: Алгоритм, 1999. С. 282, 287.
50 Еврейский антифашистский комитет в СССР. 1941 – 1948. Документированная история / Ш. Редлих, Г. Костырченко. М.: Международные отношения, 1996. С. 359, 360.
51 Кожинов В.В. Указ. соч. С. 274, 279.
52 Коммерсант-Daily. 1995. 9 сент.
53 Медведев Ж.А. Указ. соч. С. 120-124.
54 Там же. С. 146.
55 Борщаговский А.М. Обвиняется кровь. С. 185.
56 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 229. Л. 8.
57 Там же. С. 76.
58 Там же. С. 87.
[1] Медведев Ж.А. Сталин и еврейская проблема. Новый анализ. М.: Права человека, 2003.
[2] В России эта книга, написанная в соавторстве с П. Дерябиным (кагебешником-перебежчиком, работавшим консультантом в ЦРУ и армии США), вышла в 1993 году под названием «Шпион, который спас мир. Как советский полковник изменил курс “холодной войны”»
[3] Как, впрочем, и автору этих строк, не разглядевшему в свое время в истинном свете некоторые детали той давней тайной операции спецслужб.
4 Когда, работая над книгой «В плену у красного фараона», я в 1994 году попытался получить от Д.Т. Шепилова разъяснения по поводу этого и других только что рассекреченных документов ЦК, из этого ничего не вышло. Почему? Думаю, читатель сам поймет из состоявшегося тогда телефонного диалога между мною и Шепиловым:
– Дмитрий Трофимович, сможете ли вы встретиться со мной, чтобы поговорить о кампании борьбы с космополитизмом в начале 1949 года?
– А есть ли в этом необходимость? Ведь Борщаговский в последней книге («Записки баловня судьбы». – Г.К.) об этих событиях все уже рассказал и довольно точно.
– Извините, Дмитрий Трофимович, но в последнее время в бывшем Центральном партийном архиве был рассекречен ряд важных документов, которые вносят много нового в то, о чем написал Борщаговский в 1991 году. Могли бы вы ознакомиться с этими материалами и прокомментировать их?
И тут в разговоре наступила небольшая пауза. На том конце провода мой собеседник, говоривший до этого в доброжелательно-снисходительном тоне, видимо, переваривал услышанное. Вскоре он заговорил вновь, но от его благодушия не осталось и следа. В голосе послышался металл, выработанный годами былого партийно-государственного начальствования:
– Какие еще там документы вы обнаружили?
Спросил он строго, но потом, видимо, уняв невольный гнев, сухо добавил:
– К сожалению, я не смогу с вами встретиться, так как в ближайшее время ложусь в больницу. Позвоните мне потом.
Когда через несколько месяцев я опять обратился к Шепилову и вновь получил отказ, то понял, что моя надежда на встречу нереальна.
(Опубликовано в №138-139, октябрь-ноябрь 2003)
Комментариев нет:
Отправить комментарий